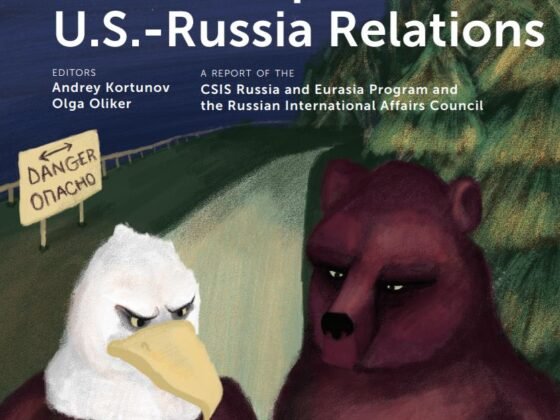«Black wind, white snow: the rise of Russia’s new nationalism» Чарльза Кловера — последняя в длинной серии изданных в США книг, посвященных обширной теме «русского национализма»; в этот список среди прочих входит книга Марселя Ван Херпена «Putin’s wars: the rise of Russia’s new imperialism». Эти труды претендуют на выработку аналитического инструментария, который поможет интерпретировать поведение России во внешней политике — конечно, в первую очередь в том, что касается военного конфликта в Украине, — и, в меньшей степени, эволюцию ее внутренней политики.
Обе эти книги посвящены формированию чего-то«нового«, но «новизна» обсуждаемого феномена остается неясной, а слова «национализм» и «империализм» никак не определены; и то, и другое — не более чем перегруженные смыслами термины, которые не могут служить аналитическими инструментами.
В книге Кловера прослеживается история евразийства от «отцов-основателей», т.е. начиная с периода между мировыми войнами через теории Льва Гумилева позднесоветских десятилетий вплоть до современности, представленной фигурой Александра Дугина.
Книга парадоксальна с нескольких точек зрения. Кловер провел в России многие годы в качестве журналиста; за это время он накопил огромный опыт, много узнал о России и российской политической жизни и собрал обширный массив подробных бесед с теми персонажами, которым посвящена его книга, — возможно, самый обширный на сегодняшний день среди исследователей данной тематики. Книга Кловера написана легко и увлекательно, ему удалось поместить многие аспекты «русского национализма» в широкий контекст и передать общую атмосферу, дух нынешнего времени. Книга содержит тонкие и проницательные портреты националистов как личностей; Кловер описывает их со всеми присущими им противоречиями, парадоксами и эклектичным набором идей. Этот эклектизм — не результат сознательного выбора тех или иных теоретических основ; он связан с тем, что эти люди читали и с кем дружили в годы становления. Отрадно, что Кловер упоминает роль панковской контркультуры в формировании «русского национализма» — факт, на который обычно не обращают внимания те, кто занимается интеллектуальной историей России последнего периода.
И все же книга вызывает два рода критических замечаний. В первую очередь не совсем понятно, почему автор сосредоточился на евразийстве, в то время как в заглавии книги как будто заявлено «возрождение национализма в России». А если допустить, что евразийство и есть новый вид национализма в России, то само по себе оно никак не ново — сам Кловер в книге подробно описывает его корни столетней давности. По утверждению Кловера, новизна состоит в том, что теперь оно становится официальной идеологией, — но именно это утверждение в книге никак не доказано, о чем я скажу ниже. Более того, иные, гораздо более «новые» аспекты и течения в национализме — этнонационалистические, ксенофобные, национал-демократические — к сожалению, вовсе не затронуты в книге. (Подробнее о старых и новых течениях в русском национализме см. статью П. Колсто “Этнификация национализма в России” в “Контрапункте”, №2, 2015 — Прим.ред.)
Сосредоточившись в разговоре о разных течениях в постсоветской России только на Дугине и его окружении, автор невольно сильно преувеличил значимость его фигуры.
Во-первых, он никак не объясняет, почему Дугин иногда остается в «одиночестве» и регулярно терпит поражение в попытке повлиять на политический ландшафт. В сравнении с тем, каким влиятельным он был в середине 1990-х годов — когда входил в состав думских комитетов, преподавал в Академии Генштаба и опубликовал бестселлер «Основы геополитики», — в недавнее время Дугин безуспешно пытался проникнуть в российский политический истеблишмент и добиться какого-нибудь официального поста. Как разрешить противоречие между неудачными попытками Дугина добиться официального статуса (он не входит даже в Общественную Палату, а во время украинского кризиса лишился поста в МГУ) и утверждением Кловера, что путинский режим принял на вооружение теории Дугина?
Во-вторых, автор явно не принимает в расчет многочисленных персонажей, действующих в современной России, которые занимаются производством идеологий самого разного толка. Тот факт, что Сурков, Якунин, Проханов и другие упоминаются лишь в связи с Дугиным, говорит о том, что книга оставляет без внимания возникновение иной — и разнообразной — идеологической продукции (в этом ряду можно назвать идейные основы политики в отношении «соотечественников» или «мягкой силы»; реабилитацию Романовых, моду на философию Ивана Ильина и белую эмиграцию и т.п.) В результате книга предлагает искаженную картину, создавая ложное впечатление, будто все, происходящее в России в идеологической сфере, является прямым результатом деятельности Дугина и его окружения.
Еще одно существенное возражение состоит в том, что даже представив детальный разбор всех связей между Дугиным и людьми, которые так или иначе составляют часть российского истеблишмента, Кловер тем не менее не выдвинул убедительных доказательств того, что евразийство стало кремлевской идеологией. При этом автор делает несколько сильных утверждений: во вступлении говорится, что «эти идеи (речь идет о том, что в декабре 2012 года Путин использовал термин «пассионарность», автором которого является Гумилев — А.П.) проявят себя пятнадцать месяцев спустя» (С. 2), тем самым связывая аннексию Крыма с евразийской идеологией. В заключении он утверждает, что «давние воззрения Дугина на евразийскую идентичность России <…> в конце концов реализовались в мае 2015, когда был создан путинский Евразийский Союз» (С. 330). Автор также подразумевает, что визит Дугина в Турцию и в Крым в 2000-х годах был предпринят «по поручению» Кремля (хотя другие исследователи1, изучавшие обстоятельства этой поездки, свидетельствуют об обратном). Автор как будто исходит из того, что «Евразийский союз молодежи» и «Наши» получали поддержку Кремля в равной степени, хотя по сравнению с «Нашими» «Евразийский союз молодежи» всегда занимал значительно более маргинальное положение.
Ценность глубокого анализа, проведенного Кловером, таким образом, неожиданно снижается из-за редукционистского взгляда автора на то, в какой степени идеология влияет на политические решения. Кроме существования евразийской теории, согласно которой Украина должна стать частью Евразии с Россией во главе, есть множество других причин, объясняющих российскую аннексию Крыма, — тут и стратегические мотивы, и групповые или личные интересы, проявляющие себя в реакции на внешние и внутренние факторы (список, разумеется, далеко не полон). А строительство Евразийского союза в немалой степени представляет собой бюрократический процесс, который не имеет почти ничего общего с евразийством Дугина.
Все это тем более обидно, что Кловер создает яркую картину работы Кремля. Развивая образ, предложенный Глебом Павловским2, Кловер пишет: «Кремль функционировал не как четкий и управляемый центром оркестр, но как джазовый импровизатор: следуя общему ритму и задевая определенную струну» (С. 265). Эта блестящая метафора должна была бы помочь автору обнаружить других джазовых импровизаторов, которые нередко оказываются ближе к Кремлю, чем сам Дугин, а также другие идеологические продукты, формирующие внешнюю политику России. Эта метафора должна была бы также помочь ему показать, как идеи и понятия утрачивают свой изначальный смысл, когда режим присваивает их себе. В самом деле, роль Дугина в джазовой импровизации Кремля заключается скорее в следовании уже принятым политическим решениям, нежели в формировании кремлевской партитуры.
В националистическом спектре России присутствует немало акторов. Дугин лишь один из них, и довольно малозначимый по сравнению со многими другими, которые остались за пределами внимания Кловера, чей анализ полностью сосредоточен на евразийстве. Я называю их «акторами» в том смысле, что у них есть пространство для маневра, в рамках которого они могут действовать, формировать идеологические предпочтения и создавать собственные объединения и сообщества.Их идеологическая ниша не всегда находится в полной гармонии с линией администрации президента, но они действуют под защитой государства, в серой зоне кремлевской «экосистемы» — групповых интересов, лоббистских групп и личных связей. Их положение нестабильно, они вынуждены существовать в условиях напряженной конкуренции и постоянного взаимодействия с другими группами и с самой администрацией президента. Подобно империям олигархов, судьба которых в конечном счете зависит от личных отношений и благосклонности властей, идеологические империи описанных акторов так же нестабильны, могут быть поставлены под сомнение и даже разрушены.
Я полагаю, что администрация президента России разрабатывает не столько национализм сам по себе, сколько эклектичную конструкцию, состоящую из разных идеологических элементов и продуцирующую не доктрину, а скорее некое смутное мироощущение. (Подробнее об эклектических установках Кремля см. статью М. Ларюэль “Россия как антилиберальная европейская цивилизация” в “Контрапункте”, №2 — Прим.ред.)
В этом калейдоскопе евразийство никак не может считаться единой «идеологией». И в целом сфера «националистического» занимает более маргинальное положение, чем, к примеру, то, что может быть отнесено к консервативному репертуару.
Если пытаться описать тот идеологический инструментарий, который Кремль использует для осуществления своих задач, то в общих чертах он сводится к следующему: идейные установки должны быть достаточно четкими, чтобы маргинализовать и делегитимировать тех, кто проявляет нелояльность режиму, но при этом достаточно расплывчатыми, чтобы с ними могли солидаризироваться как можно более широкие массы россиян. Иначе говоря, стремясь найти наименьший общий знаменатель, Кремль предлагает широкий «идеологический репертуар», в котором практически каждый может найти что-то на свой вкус. Гибкая природа такого мироощущения подтверждает инструментальную природу «идеологии» Кремля: российские власти не хотят связывать себя излишне жесткой концепцией, чтобы сохранить свободу действий; тем самым они имеют возможность переходить с одного регистра на другой, не давая никому никаких объяснений. Гибкость имеет и другое преимущество: она консолидирует общественное согласие вокруг режима, поскольку с таким широким спектром идеологических установок может согласиться почти каждый.
У этого мироощущения есть одно общее основание, базовый минимум для всех и каждого: нужно провозглашать себя патриотом, демонстрировать некоторую гордость по поводу возрождения страны после распада СССР, лелеять ностальгические воспоминания о советских временах и клеймить разнузданный либерализм ельцинского режима, из-за которого страна оказалась на грани гражданской войны. Те, кто причисляет себя к сторонникам западной модели развития, сегодня считаются изгоями. Зато легитимным признается право России контролировать «ближнее зарубежье» и восстановление «голоса России» на международной арене. Приветствуются циничные утверждения о том, что международное сообщество является объектом манипуляции влиятельных групповых интересов, а высокие идеалистические принципы — всего лишь ширма; поощряются конспирологические объяснения мировых и внутренних процессов. Пользуется широкой популярностью идея, что Россия не может позволить себе новую революцию или шоковую терапию; что она должна реформироваться постепенно, соблюдая свой собственный ритм.
На этих основаниях строится целый ряд «идеологий», все они доступны для широкого потребления, и ни одной из них не отдается особое предпочтение. Можно ностальгировать по Советскому Союзу или по царской империи, считать Ивана Грозного, Николая II, Столыпина, Ленина, Сталина или Гагарина важнейшим героем национальной истории. Можно хотеть, чтобы православие стало государственной религией, или радоваться секулярности государственных институтов и гордиться религиозным разнообразием страны. Можно в разумных пределах считать Россию страной этнических русских, пребывающих в постоянной борьбе с национальными меньшинствами, или прославлять мирное сосуществование разных народов России. Можно поддерживать полный изоляционизм или превозносить стремление России создать вместе с союзниками многополярный мир. Можно желать возрождения панславизма среди православных «братьев» славян или евразийства во всем тюркско-монгольском мире, можно мечтать о «русском мире», включающем в себя русские диаспоры, или найти себе подходящую модель в Византийской империи или современном Китае.
Кремль культивирует имплицитное, символическое, иносказательное, он предлагает широкий репертуар, из которого каждый гражданин может выбрать что-то для себя. Евразийство — лишь часть этого калейдоскопа, а не «идеология»; и, конечно, никак не официальная. Идеологический экстремизм Дугина ведет к поляризации и расколу, а потому не годится на роль государственной «идеологии» в сегодняшней России.
Примечания
1. İmanbeyli V. “Failed Exodus”: Dugin’s Networks in Turkey // Laruelle M. (Ed.) Eurasianism and European Far Right. Lanham, MD: Lexington Books, 2015. P.145–174.
2. Глеб Павловский неоднократно использовал метафору «джазовой импровизации» для описания государственного управления при Путине: «<…> политика Кремля в чем-то напоминает игру джазовой группы; непрерывная импровизация как попытка пережить последний по времени кризис». (Цит. по Крастев И. В чем Запад ошибается насчет России // Россия в глобальной политике. 2015. 16 августа. URL: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/V-chem-Zapad-oshibaetsya-naschet-Rossii-17624 (доступ 29.08.2016).