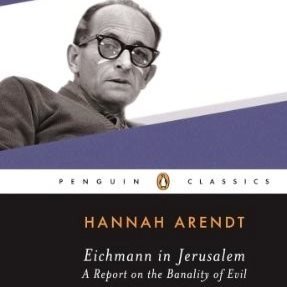Полноценная история «охоты на Эйхмана», того, как усилия энтузиастов и мастерство израильских разведчиков позволили захватить в Буэнос-Айресе и тайно вывезти в Израиль одного из руководителей гитлеровского проекта по уничтожению евреев, стала возможной только после того, как участники захвата либо умерли, либо ушли в отставку – и, значит, смогли рассказать репортеру у событиях, которые до этого были секретными. Большая часть подробностей была известна и полвека назад – первая книга об операции вышла за три недели до начала процесса, меньше чем через год после того как Эйхман был перехвачен, когда шёл с автобуса домой, помещён в подвал дома в Буэнос-Айресе и вывезен, под воздействием сильнодействующих лекарств, на самолете Эль Аль, который, якобы, прилетал в столицу Аргентины, чтобы привезти официальную делегацию. В "Охоте на Эйхмана" Нила Баскомба нет ничего, кроме захватывающих детективных подробностей, но криминальная драма может быть поводом подумать о чем-то более серьезном.
У нас в России есть распространённое сожаление – о том, что не было «русского Нюрнберга», процесса, по итогам которого были бы осуждены преступления коммунистического режима времён Сталина. Я слышал эти сожаления до «процесса КПСС» в начале 1990-х, который не удовлетворил никакую из сторон и не тронул широкие массы. К этому моменту завершилось «возвращение имён» в конце 1980-х, которое не столько рассказало правду – к этому моменту, после «оттепели» 60-х, после выхода «Большого террора» в 1968-ом и «Архипелага ГУЛаг» в 1973-ем, все желающие знать масштаб, его знали – сколько, добавив тысячи человеческих подробностей, сделало судьбы множества людей частью истории в популярном восприятии. Процесс Компартии ничего не добавил, а усиливающийся экономический кризис уменьшил массовый интерес к истории. Возможно, правильно сожалеть, что у нас не было не столько Нюрнберга, сколько «процесса Эйхмана». Как раз этот процесс породил ключевые дискуссии середины ХХ века и, среди прочего, дискуссии вокруг книги Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме: Отчёт о банальности зла», одного из важнейших философских текстов нашего времени.
2.
То, чем теперь известна книга Арендт, подзаголовок – «отчёт о банальности зла» – не так интересен, как все остальное в этой книге. Я помню, что удивился, когда недавний политэмигрант использовал этот термин по отношению к сотрудникам Следственного комитета, которые допрашивали его как свидетеля по «третьему делу ЮКОСа». С одной стороны, это было аналитически точно – он говорил о том, насколько сильно человек, ставший за десятилетие работы над «делом Ходорковского» из капитана генералом, воспринимает себя как бездумный винтик в каком-то большом деле, старается делать свою работу, работу винтика, хорошо и нисколько не задумывается о своей личной моральной ответственности за то, что делает. С другой, мне требуется изрядное усилие, чтобы поставить в одну строку винтики гитлеровской администрации и винтики нашей. Концепция Арендт не сводится к подзаголовку ее книги. Эйхман написал три книги мемуаров, до и после ареста, пытаясь объясниться и оправдаться и банальность его зла состоит из, как минимум, двух важных элементов. Из «банальности», потому что Эйхман старателен, аморален и глуп, что в жизни, что в собственных мемуарах и «зла», потому что его процесс ничего бы не стоил и не стал бы важной вехой ХХ века, если бы подсудимый не был участником чудовищного зла.
Из «русских Эйхманов», технических организаторов убийств и депортаций в 1920-50е, одни – Ежов, Ягода, Берия, Абакумов, Гоглидзе, братья Кобуловы – были осуждены и казнены, кто за что, другие – Мехлис, Вышинский, Серов, Игнатьев – умерли в своей постели после десятилетий на госслужбе. В смысле физического представления, которым стал бы суд над кем-то из этих персонажей, сходство с процессом Эйхмана было бы значительным. Нас, как зрителей суда над Эйхмана, удивляло бы и смущало несоответствие двух масштабов: мелкости подсудимого, не могущего артикулировать ничего, кроме своих мелких карьерных целей, в погоне за которыми он участвовал в совершении преступлений и размеров последствий этих преступлений – убитых людей и разрушенных жизней. То есть то, что было начальной точкой для Арендт, вот это несоответствие масштабов причиненного зла и персонажей, из действий которых складывалось это зло, нашлось бы и в случае «Эйхмана в Москве». Все остальное, однако, было бы другим.
3.
Принципиальное отличие, делающее историю Холокоста более простой, чем история сталинского террора, состоит в том, что в трагедии евреев очень чётко определена одна из сторон, сторона жертвы. Систематическому террору в гитлеровском Рейхе подвергались многие группы – и цыгане, и гомосексуалисты, и инвалиды, и советские работники. Трагедия евреев чудовищна своим масштабом и жесткостью, и именно масштаб позволяет увидеть мелкие детали её механики. В частности, то, что евреи были именно не стороной конфликта, а беззащитной жертвой. Арендт в своей книге посвящает много страниц роли еврейских лидеров и организаций в гибели миллионов европейских евреев – по её мнению, без их помощи в организации депортаций и убийств жертв могло бы быть намного меньше. Желая договориться с убийцами хоть о чем-то, они помогли построить конвейер, на котором еврейские семьи сначала лишались собственности, а потом жизни. Некоторые, хотя и немногие из них, спаслись – и не случайно книга Арендт, один из важнейших текстов ХХ века, вызывала волну критических книг и выступлений и не издавалась в Израиле почти тридцать лет. Вопросы об ответственности еврейских лидеров за трагический исход – не единственное место у Арендт, породившее ожесточенную дискуссию, но, пожалуй, самые болезненные. Ироничный, почти колумнистский тон – там, где должен был бы быть тон самый пафосный – только усилил провокативность тезисов.
Тем не менее, даже Арендт, которую проклинали за саму постановку вопроса о частичной ответственности еврейских лидеров за гибель людей во время Холокоста, считает всех без исключения евреев жертвами. Члены «Юденрата» и еврейской полиции, сотрудники лагерей уничтожения из числа наиболее сильных и здоровых евреев отступили от моральных и человеческих принципов под угрозой смертельной опасности, в ситуации, которая является проверкой моральных принципов в песнях или кино, но не в жизни. Поведение человека в такой ситуации мало говорит о том, какова его моральная крепость в ситуации обычной, неэкзистенциальной. По большому счёту все они – даже те ничтожные единицы, которые спаслись ценой сотрудничества с убийцами – жертвы.
В сталинских репрессиях такого ясного деления нет. Жертвы, даже прямые, то есть два миллиона казненных и несколько миллионов арестованных или переселённых, не укладываются в какую-то единую категорию. Конечно, отдельные социальные или этнические группы – дворяне, зажиточные крестьяне, чеченцы, немцы, крымские татары, западные украинцы, прибалты, жители Петербурга – пострадали сильнее или даже были объектом целенаправленных репрессий. Тем не менее, линии раздела никогда не проходили так чётко и жестко и сама по себе принадлежность к группе, вне других обстоятельств, не приводила, как в случае евреев в Третьем Рейхе, к почти гарантированному уничтожению. То есть масштаб трагедии так же велик, детали – бессмысленные и жестокие убийства великих учёных и маленьких детей – так же невыносимы, но чтобы трагедию увидеть, а детали понять нужны какие-то более совершенные линзы.
Отсутствие четких линий раздела привело к тому, что сталинские репрессии невозможно свести к таким простым формулам как, например, бен-гурионовская версия Холокоста как последнего и высшего проявления исторического, складывавшегося на протяжении столетий европейского антисемитизма. Простые формулы возникают сами собой как способ преодоления травматического опыта. Так появилась в 1950-е формула сталинских репрессий как побочного, необходимого эффекта определенной экономической политики. Это абсурдное, никак не согласующееся ни с экономической логикой, ни с историческими фактами объяснение живёт не только в популярном сознании. Есть целый ряд историков, построивших успешную – в плане тиражей и позиций – карьеру на тезисе «необходимости Сталина». Понятно, какой когнитивный диссонанс вызывает мысль о том, что родственники, знакомые или соседи погибли из-за чьего-то желания захватить и удержать власть. Куда комфортнее думать, что смерти и страдания были частью или следствием какого-то грандиозного проекта или замысла. Отсюда миф о больших экономических достижениях в годы правления Сталина, отсюда мифическая «цитата из Черчилля» про соху и бомбу и т.п. Точно также репрессии против чеченцев, ингушей, татар комфортно объясняются военной логикой – здесь, впрочем, есть хотя бы некоторая поверхностная историчность; репрессии так оправдывались во время проведения.
4.
Принципиальная разница между Эйхманом в Иерусалиме и «винтиком Сталина» в Москве – возможность провести границу «свой-чужой». Как бы ни был последователен человек, убежденный в преступности Сталина, он не может отказаться от логики, в которой Сталин – свой. Президент Путин на протяжении двух десятилетий последовательно выступал с заявлениями и репликами, осуждающими Сталина и его приспешников и подчеркивающими ущерб, нанесённый стране, безусловным патриотом которой он является. Его публичные выступления и конкретные действия не оставляют простора для интерпретаций – они все антисталинские, причем антисталинские с самых ортодоксально патриотических позиций. И при том, что слова и поступки президента на протяжении почти двадцати лет были однозначно антисталинскими, оказалось возможным интерпретация его линии в качестве именно «просталинской». Это доходит до абсурда: президент Путин последовательно, раз за разом, говорит про то, что преступлениям Сталина нет оправдания и открывает мемориалы его жертвам и, тем не менее, есть люди, которые считают его тайным адептом Сталина и, вопреки всем словам и поступкам, проводником политики реабилитации Сталина и сталинизма. Причина состоит в навязывании, по разным причинам, линии раздела «свой-чужой», в которой Сталин оказывается «своим», а вся критика сталинизма – просто гарниром к тезису о том, что Сталин – свой.
Таким образом, суд над Эйхманом в Иерусалиме был прост для понимания, потому что в нем подсудимый был «чужим» для жертв. Он был «чужим» и для судей, но это в данном случае не так важно. Нюрнбергский процесс до известной степени тоже обладал этим свойством: во-первых, основные обвинения были со стороны тех, для кого гитлеровские лидеры были «чужими»: более серьезными обвинениями считались «преступления против мира» и «преступления против человечности», а не убийство людей. Нюрнбергский трибунал провел некоторую фактическую границу в приговорах: повешены были те, кто, среди прочего, нёс непосредственную ответственность за убийства мирных людей; Риббентроп был исключением, подтверждающее общее правило. (На гипотетическом «русском Нюрнберге» на эшафот отправились бы Молотов, Микоян, Каганович – те, чьи подписи стояли на «расстрельных списках» Большого террора; Ежов, Эйхе, Рудзутак, Косиор так и отправились, не гипотетически, а непосредственно.) Во время и после Нюрнберга ожесточенная полемика развернулась вокруг несправедливости «суда победителей», при котором у «проигравших» нет гарантий полноценной соревновательность обвинения и защиты. Но это было как раз примером бессмысленной схоластики: суд практически всегда опирается на то, что у одной из сторон есть «физическое преимущество» – без этого большинство процессов, даже уголовных, было бы невозможно. Более важно, что суд, проводимый странами-победителями, автоматически обозначал раздел «свой-чужой», с «чужими» на скамье подсудимых. Неслучайно, что мелкие процессы, которые следовали за Нюрнбергом – например, руководство концлагерей в Польше и Чехословакии передали для суда на места – завершились куда более жесткими приговорами, чем аналогичные процессы в собственно Германии. За то, за что «чужих» в Восточной Европе повесили, «свои» в Германии получили небольшие, за редким исключением, тюремные сроки.
Из этого следует два простых вывода. Чтобы «русский Нюрнберг» состоялся, было необходимо, чтобы Сталин и Ко, стали, в общественном восприятии, «чужими». Не обсуждая вопрос о том, в какой степени они действительно были этими чужими – по факту, их интересы никак не совпадали с интересами граждан, которых они подчинили и которых эксплуатировали, можно определённо сказать, что в общественном восприятии этими чужими они не стали. То есть шансов и не было. Второй вывод состоит в том, что «популярность Сталина» и происходит из того, что сказать «я люблю Сталина», как бы это дико не звучало для нормального человека, имеет смысл как заявление «я за своих». Это не имеет отношения к тонкому различению «свой-чужой» по линии «нормальный человек-преступник», а только к самому примитивному «русский-нерусский». Сталин или Гитлер или другой аналогичный доморощенный диктатор автоматически является «своим» и никакие преступления сделать его «чужим» не могут. Если дискурс недостаточно глубок, чтобы рассматривать тонкости и все сводится к заявлениям «я -свой» и раскладыванию всех явлений в два отделения, «свой» и «чужой», отечественные преступники никогда не будут окончательно осуждены в глазах общественного мнения.
5.
Одна из тех вещей, которую мы в XXI веке понимаем лучше, чем те, кто писал пятьдесят лет назад – это роль языка. Или, точнее, к настоящему времени накоплен гораздо больший массив примеров, каждый состоящий из обстоятельств, словаря и субъектов со своими целями и особенностями словоупотребления. 2016 год, избирательная кампания Дональда Трампа в США, сделала проблемы, связывающие язык, слова и чувства избирателей темой публичного обсуждения. Неспособность демократов понять (перевести на свой язык) то, насколько слова Трампа отвечают чувствам избирателей обманула их дважды. Вначале в ходе избирательной кампании, когда, переводя на свой язык слова Трампа, они получали неприличную чепуху, которая не могла понравиться медианному избирателю. Потом в ходе аутопсии кампании, которая не прибавляет понимания того, что произошло. Очевидно было, что Трамп – политик, для которого как никогда важен личный комфорт при выборе слов – другие политики в демократических странах больше заботятся о комфорте для слушателей, а не для себя. Что было непонятно, насколько этот комфорт лично для говорящего оказался нужен тем, кто наблюдал это шоу.
Риторика Молотова, председателя Совета министров и министра иностранных дел, в отношении Польши, частично оккупированной советскими войсками в 1940 году – показательный пример. «Искусственное порождение Версальского договора». В 2014 году эта речь всплыла в сравнении с выступлениями российского руководства по отношению к Украине. Ключевой элемент этой риторики – непризнание, на уровне языка, самого факта существования независимого государства. Поскольку в обоих случаях выступающий обращается к своей, согласной и зависимой аудитории, это непризнание – не инструмент воздействия с целью убедить слушателей в несуществовании, а естественный элемент поддержания собственного комфорта. В обоих случаях комфорт не является чисто политическим, у него есть и бытовая, личная компонента – в обоих случаях они говорят, в настоящем времени, о том, что было статус кво в их детстве и юности. (К 1940 году Польша была отдельной от России страной чуть больше 20 лет; примерно столько же к 2014 году бела независимой Украина.)
Арендт говорит про то, что «немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета». В Будапеште в 1944 году, договариваясь с назначенными немцами же руководителями еврейской общины о процедурах уничтожения евреев, Эйхман говорит «Завтра мы с вами снова будем противниками на поле брани». Это – эффективная переговорная тактика, потому что помогает дрожащим о страха собеседникам почувствовать себя реальными участниками каких-то реальных переговоров. Но это и преодоление, пусть глупое, собственного когнитивного диссонанса – ты, как будто, не убиваешь невинных людей, а участвуешь в борьбе с каким-то противниками, как будто обладающими какими-то силами и правами. Так русские Эйхманы боролись с «идеологическими врагами», потому что без чувства, что тебе противостоит какой-то враг, слишком тяжело было бы убивать женщин и детей.
Не опираясь, возможно, на книгу Арендт – хотя хронологически он мог быть с ней или с отголосками дискуссии знаком – Солженицын разобрал этот феномен в «Раковом корпусе». У Павла Русанова, малограмотного и ограниченого советского работника, мелкого начальника, «неправильные» слова вызывают физическую боль. Это относится к передовицам газет, в которых стремительно, в историческом времени, меняется отношение к Сталину. Это относится к его собственным воспоминаниям – принципиально важно, как в этих воспоминаниях называются те, кого оно оговорил, чтобы получить какое-то продвижение по службе или, что ли, квартиру. Он боится возвращения репрессированных из ссылки, потому что это приводит к тому, что поступки, оправданные и официальным языком, и языком общения на уровне того круга, в котором Русанов обращается, называются теперь по другому. «Предательство», «донос», «ложь», «кража», «убийство» оказываются адекватным описанием поступков – то есть, для этого конкретного индивида, предателя, доносчика, лжеца и вора становятся реальными, произошедшими от того, что произнесены и именно с этого момента.
6.
Сложность с языком, на котором обсуждается происходящее, касается не только объектов нашего обсуждения. Мне самому тяжело читать о Холокосте и мозг буквально заставляет переходить на какое-то скольжение по тексту, по лицам. И все же, читая книгу Арендт – вовсе не документальную историю Холокоста, а философское эссе о природе зла, структуре власти, свойствах языках – и все же, отрываясь от страниц, я смотрю на детей, играющих на юрмальском пляже и меня охватывает ужас. Такие же маленькие дети, ничего не понимая, быть может, кроме ужаса, в котором пребывали их родители, отправлялись вагонами на смерть. Когда я думаю об этом, я утрачиваю способность думать о чём-то другом. Чтобы прочитать и написать о прочитанном, историку нужно вырваться из этого, остраниться – просто чтобы подумать и правильно подобрать слова. Однако в тот момент, когда я совершу этот акт, без которого невозможно осмысление, я уже поддамся власти языка и эволюционного желания не думать о смерти, сделав шаг вслед за Эйхманом.
В моем личном случае это может быть просто неспособностью выполнить профессиональную работу историка. В другом контексте Борис Успенский указал, что предметом исторического исследования является, по определению, «отчуждаемое прошлое»: «прошлое стало предметом исторического рассмотрения, оно должно быть осмыслено именно как прошлое, т. е. отчужденно от настоящего и отнесено к другому временному плану (к другой действительности).» Для Успенского история «отчуждается», делается сейчас, в тот момент когда мы выбираем значимые события из многообразного прошлого. Здесь без «отчуждения» невозможно относится к историческому факту, потому что задача – не установить факт, а оценить его или, хотя бы, как в задаче у Ханны Арендт, оценить методы оценки исторических фактов обществом.
Защитная функция используемых слов проявляется во всем. Мне она видится даже в использовании слова «расстрел», когда мы говорим о сталинских репрессиях. «Расстрел» – это что-то хоть в каком-то смысле красивое, сцена из биографии Мюрата или фильма «Овод». Толстой в сцене расстрела патриотов, которую наблюдает Пьер Безухов, делает все возможное, чтобы сделать это грязным и омерзительным, и все равно получается не то. Если бы «Войну и мир» снял не Бондарчук, а Герман, может быть, Толстому бы больше понравилось… Но даже самый реалистичный, отвратительный расстрел – это не то, что было с жертвами Большого террора, сотнями тысяч человек, убитыми в течение полутора лет в 1937-38 годах. Безжизненные, отупевшие от голода и мучений тела подтаскивают к палачу, он стреляет из револьвера в затылок и тело сбрасывают в ров. Это такая жуткая картина, что, я уверен, среди «поклонников Сталина» есть много тех, у кого «поклонничество» – это форма защиты от видений из урочища Сандормох. Нормальные же люди прячут эту грязь и боль под словом «расстрел», но все равно прячут. Ирония состоит в том, что, согласно этой теории самыми чувствительными оказываются те самые тупые животные, которые пытаются прикрыть мемориалы – что на Соловках, что в Сандормохе, что в Перме – так и что ж, страх, может, они и чувствуют первыми.
Когда разбираешь риторику и страх, имеешь дело как будто с какой-то бесконечной луковицей. Я сам десять лет пишу про то, как пагубна и разрушительна тяга российского политического руководства к милитаризации. «Гонка вооружений», сирийская авантюра, неуклюжее вмешательство в украинские дела – это только часть тех потерь, материальных и моральных, которые несёт страна. Стандартные объяснения выглядят очень убедительно: военная и квазивоенная риторика («Россия в кольце врагов») помогают удерживать власть, военные расходы служат обогащению небольшой части элиты, а военизация принятия решения делает мирную смену курса практически невозможной. Но если от этих стандартных, правильных объяснений отвлечься, то, быть может, истерическая военизация – следствие борьбы со страхом новой оккупации? Двадцать, а в последние годы и тридцать миллионов жертв войны настолько навязли в устах пропагандистов, что их просто не слышишь, но это же не значит, что их не было? Пропагандист выдает их скороговоркой, требуя, чтобы слушатель, автоматически проникаясь симпатией, безоговорочно верил то, что они пытаются продать, используя эту симпатию. Неслучайно любая попытка притормозить эту скороговорку, раскрыть ее смысл – не опровергнуть, а только развернуть – вызывает сопротивление, а то и бешенство. Тот, кто читал книги Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, легко себе представит ее центральным автором для патриотически, милитаристски настроенной публики. Книга, которая ее прославила, «У войны не женское лицо» – это и есть «двадцать миллионов жертв», просто в более сильном разрешении. Консерваторы от советской идеологии оценили ее выше нынешних новоконсерваторов типа Максима Соколова – для тех война была настоящей болью, а не набором удобных штампов. Но даже и штампы, из которых современный пропагандист клеит очередную колонку – это свидетельство реальности имеющейся травмы; без неё колонки не имели бы читателей, а авторы – поклонников. В какой степени наш милитаризм – результат иррационального, но имеющего реальные корни страха?
7.
Курьезной чертой советской эпохи и коммунистической идеологии советской эпохи является то, что они не оставили никаких центральных, значимых текстов, вокруг которых складывался бы дискурс в постсоветское время. Из двадцать первого века интеллектуально значимыми представляются либо художественные произведения (например, «Архипелаг ГУЛаг»), либо «документы эпохи» (стенограмма Вигдоровой), либо тексты и эссе противников советской власти («Размышления о сосуществовании и прогрессе», «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», письмо Турчина-Медведева-Сахарова). Даже если речь идёт об откровенно неполитическом, но значимом произведении («Прогулки с Пушкиным», «Картезианские размышления», среди множества возможных примеров), то автор всегда если не представитель контркультуры как Бахтин или периферийный сотрудник официальных организаций как Гуревич, то уж точно не представитель хоть сколько-то высокого уровня официальной иерархии. Если в естественных науках среди руководства встречались ученые высокого – или, чаще, «потенциально высокого» уровня, то за пределами естественных наук – определённо нет. В итоге интеллектуального наследия тех, кто определял идеологию и вершил судьбы гуманитариев, попросту нет. Из советского руководства если кто и оставил личные мемуары, то откровенно убогие. Даже их референты и помощники – те, кто в других странах и эпохах были бы «властителями дум» либо во время работы (Шлезингер), либо после (скажем, биограф Черчилля Дженкинс), оставили мемуары, интересные лишь фактурой.
То есть тут впору говорить про «банальность без зла» и тогда получается, что Арендт, разглядев убожество Эйхмана, пропустила всё важное. Если «банальность без зла» так распространена, то зло Эйхмана, без которого ни он сам, ни его процесс и его осмысление не представляли бы никакого интереса, оказывается полностью ортогональным его убожеству. Эйхман тогда просто пример человека, который, несмотря на своё убожество, оказался важным винтиком в машине зла. При этом ни правило «винтиками в машине зла являются только убожества», ни правило «когда убожества являются винтиками, происходит зло» не доказаны. Я подозреваю, что если членов коммунистического руководства за всю историю советской власти отранжировать по интеллектуальным, да и любым способностям, то зависимость будет обратной. «Элита» 1970-80х окажется наименее интересной – от неё не осталось и тени интеллектуального продукта – и при этом, конечно, наиболее безобидной. Называть их «злом» было бы обесцениванием зла.
Текущая мелодрама вокруг диссертации министра культуры, а в прошлом депутата Госдумы Мединского – лишь типичный пример. С Эйхманом его объединяет убожество, а разъединяет то, что Мединский не имеет отношения ни к какому «злу». Его диссертации – пограничный случай между фальсификацией научной степени (то, за чем было поймано изрядное число министров и депутатов) и плохой наукой, за которую никого не ловят. Стандартное наказание за производство плохой науки приходит само собой – никто не воспринимает труды плохих учёных всерьёз и они никак ни на чем не сказываются. В чисто научном смысле все и так справедливо – никто из историков не воспринимает «труды» Мединского всерьёз; аргументы его защитников – тех, кто выступают против лишения его степеней – сводятся к тому, что (а) каждый имеет право заниматься считать себя ученым и (б) каждый имеет право на своё мнение. С чем не поспоришь, хотя для полной чистоты этих аргументов было бы здорово иметь тексты, не сляпанные из чужих посредством подстановки других эпох и имён.
Что делает «случай Мединского» примером «банальности без зла» – его собственные настойчивые заявления о том, что как же он может анализировать русскую историю кроме как с про-русских позиций. Не понимая, очевидно, что сама эта декларируемая необходимость что-то анализировать «с национальных позиций» дисквалицифирует его как историка и показывает незнакомство с базовыми научными принципами. Тем не менее то самое, что ярко демонстрирует профессиональную непригодность, оказывается крайне выгодным в карьерном плане, потому что чётко демонстрирует выбор в дихотомии «свой-чужой». Что хорошо в случае Мединского – его принадлежность к «своим» следует из его деклараций, а не просто по факту плохого качества его работ. Идея о том, что для того, чтобы продвигаться в российской научной и политической иерархии, нужно, необходимо производить работы плохого качества, распространена, но на мой взгляд, эмпирически неверна. При прочих равных, для карьеры лучше иметь хорошую диссертацию, чем плохую – тем не менее, правильная принадлежность к «своим» настолько важна, что извиняет любые потери в качестве.
8.
Арендт, в той части в которой она оспаривает основания, на которых трибунал осудил Эйхмана на смерть, чрезмерно компенсирует естественное желание считать вину Эйхмана, высокопоставленного сотрудника СС, доказанной ещё до суда. Фактически, она опирается на тезис о том, что вина подсудимого, обвиняемого в чудовищных преступлениях, должна быть доказана с пропорционально большей убедительностью, чем если бы он обвинялся просто в убийстве. Для того, чтобы повесить Эйхмана, не нужно было доказывать, что именно он решал вопрос о жизни и смерти евреев Вены и Будапешта; вполне было достаточно подписи под документами, отправляющими один вагон. Точно так же, чтобы повесить генерала Серова, если бы над ним состоялся суд, не нужно было бы заслушивать показания о гибели тысяч чеченских и ингушских переселенцев в дороге и в месте ссылки, где их зимой выбросили в чистое поле. Достаточно было бы подтвержденной свидетелями смерти одного ребёнка и технических приказов, обеспечивающих какие-то аспекты депортации, за подписью генерала. То есть использования ровно того стандарта, который использовал бы уголовный суд, рассматривая мотив (продвижение по службе) и орудия преступления. Тот факт, что этот стандарт, приложенный к поступкам, совершенным в ходе Холокоста или любых массовых репрессий, привёл бы к десяткам тысячам обвинительных приговоров – и это было бы, скажем, политически и экономически неэффективно – никак не является основанием считать каждый отдельный приговор несправедливым. Если бы все советские работники, участвовавшие в сталинских репрессиях на минимально ответственном уровне, были бы расстреляны, это было бы плохо для страны – и потому не должно было состояться (и не состоялось), но каждый из расстрелянных при этом получил бы по заслугам.
9.
Хорошо известно, что советское правительство сопротивлялось, до известной степени распространению информации о Холокосте в нашей стране, при том, что значительная часть убийств пришлась именно на оккупированные территории СССР. Если же рассматривать территорию «в границах Российской империи», так и подавляющее большинство зверств пришлось на эту территорию. С одной стороны, нельзя сказать, что запрет был полным – в художественных произведениях террор против евреев упоминался, а «Бабий Яр» Евтушенко был опубликован. С другой – на редких памятниках жертвам фашистов среди мирного населения евреи специально не упоминались, даже если речь шла о массовых убийствах на территории современной Украины и Белоруссии, одном из самых масштабных и жестоких эпизодов Холокоста, книги и исторические исследования Холокоста не разрешались, мемориальные мероприятия, даже совершенно частные, не поощрялись.
Официальным прикрытием политики замалчивания был интернационализм – все народы пострадали от фашистов, а все народы выделять не хотелось. Если отдельно отмечать, скажем, евреев (это могло бы быть оправдано тем, что немцы явным образом уничтожали евреев), то было бы естественно отмечать украинцев, которых, в абсолютных числах, погибло больше. Но проводить на Украине, где до начала 1950-х шла, фактически, гражданская война, деление на русских и украинцев, пусть и среди жертв фашистов, было контрпродуктивно. Решение национальных проблем с помощью подавления всего национального в СССР было, в конечном итоге, плохим (нерешённость этих проблем, наложившаяся на тяжёлый экономический кризис, привела к распаду страны), но, во всяком случае, это было каким-то решением. Иными словами, «интернационализм» не был чистой воды прикрытием для антисемитизма, которого в СССР было немало. Опять все та же бесконечная луковица, у которой, отшелушивая очередной слой, не знаешь, стал ты ближе к окончательному пониманию или нет.