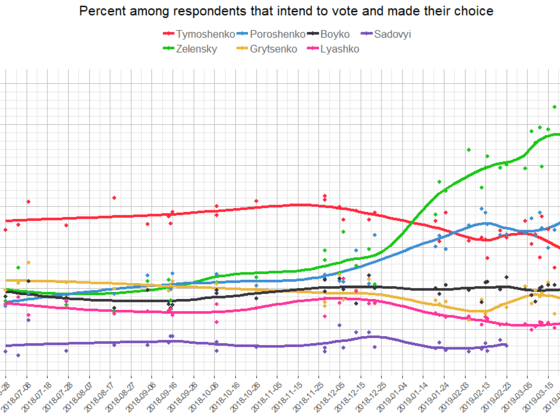Сокращение социальных программ, революции и гражданские войны – все это следствия глобальной нехватки денег, считает известный макросоциолог Георгий Дерлугьян. Чем объясняются военные и гражданские конфликты, что влияет на повседневную жизнь простых людей и нужно ли политикам кого-то слушать? Эти важные для понимания происходящих в мире процессов вопросы журналист Михаил Рогожников задавал в беседе с профессором социологии и политологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, профессором РАНХиГС и прежде всего известным ученым в области исторической макросоциологии Георгием Дерлугьяном. Который, к слову, является непосредственным продолжателем школы миросистемного анализа современности Иммануила Валлерстайна.
Михаил Рогожников: В мире происходит что-то странное. Четверть века назад ожидалось, что либеральные рынки и демократические институты повсеместно будут способствовать росту благосостояния. Кое-что сбылось, но далее последовала череда экономических кризисов и политических проблем. А теперь мы видим расползание географии и численности военных конфликтов. Кто ошибся – теоретики или практики-политики?
Георгий Дерлугьян: Рынки и демократия – это была последняя великая идея и великая утопия XX века. В этом смысле Френсис Фукуяма с «Концом истории» действительно прав, но не в рамках конца всей истории человечества, а конца истории капитализма. И сегодня в мире два вида реакции на это: либо разочарование и апатия, либо протестные выступления с очень неопределенными лозунгами. Протестный потенциал в мире очень большой. Это показывает нам, что действительно происходит, видимо, исчерпание системы, которое миросистемный анализ прогнозировал еще в 70–80-е годы. И это исполняется одно за другим. У нас накладывается тройной кризис. Во-первых, это кондратьевский цикл подъема и спада экономической активности. Сам Николай Кондратьев в 1920-е годы природу открытых им циклов (продолжительностью несколько десятилетий) объяснить не мог, а позднее стало возможным объяснить при помощи Йозефа Шумпетера: это цикл исчерпания инноваций. Инновации бывают не только технические. Капитализм двигается двумя типами новаций: открытие новых техник и открытие новых рынков. В 90-е годы произошел взрыв открытия новых рынков, когда рухнули всевозможные границы, прежде всего границы охраняемых экономик социалистического типа, и советской, и китайской. И капитализм получил колоссальный доступ к ресурсам. Это вызвало, однако, в основном спекуляцию. Сейчас маятник приходит в низшую точку, когда заработная плата падает по всему миру. Поэтому и бастовать становится бесполезным. Заработки растут, когда выгоднее договориться с рабочими, чем рисковать устойчиво прибыльным производством либо, как в СССР, рисковать внести сумятицу в военно-промышленный комплекс. Этим же объясняется и то, что падает авторитет традиционно левых партий, которые политически оформляли эти забастовочные требования. Одновременно растет авторитет всякого рода «партий озлобленности», когда люди голосуют против чего-то: против Евросоюза, против олигархии, голосуют, чтобы наказать кого-то. Либо – за религиозные партии, которые опять же накажут тех, кто не верит ни во что, либо каких-нибудь иностранных империалистов. Но это партии реакции, в смысле реагирования на что-то. Можно сказать, что кондратьевский кризис будет преодолен, потому что Китай откроется как рынок сбыта, очень важный. Все, что я сейчас говорил о бессмысленности забастовок, как раз к Китаю не относится, там забастовки происходят, там растет стоимость рабочей силы. Это означает, что китайцы скоро станут потребителями. Посмотрим, кто будет экспортировать на этот рынок.
Михаил Рогожников: Не играет ли американская элита, так сказать, на понижение, не пытается ли она пригасить развитие того же Китая, Латинской Америки, других регионов? Поскольку сама Америка сейчас не имеет такого потенциала развития, как прежде.
Георгий Дерлугьян: Это называется противоречием. Часть американской элиты, может быть, и соблазнилась бы. Конечно, боятся Китая, и хотелось бы как-то его сдерживать. Конечно, в Латинской Америке много неприятных политических процессов для США. Но есть и другая часть американской элиты. О чем у нас очень часто забывают – что там много разных фракций, и есть такие, которые более трезво оценивают ситуацию. Напоминают, что Китай важен как союзник и поставщик, и как бы тут не подорвать и не похоронить всю мировую экономику. Также есть те, кто говорит: нужно создавать различные конфигурации союзов, воевать с одними и укреплять других. Об этом постоянно идут дебаты в американском политическом истеблишменте. Предлагаются разные решения, в том числе такие, которые соответствуют страху некоторых российских аналитиков, но я не скажу, что эти решения реализуются на практике. Другое дело, что из этих дебатов не появляется никакого решения уже давно. Мы видим, как машину стопорит. Потому что решения очевидно выигрышного – нет, вот в этом как раз кризис всемирной системы.
Михаил Рогожников: Можно ли дать краткую общую характеристику периода, переживаемого сегодня миросистемой? Пять-шесть лет назад, в разгар кризиса, говорилось о явных признаках предсказанного Валлерстайном финала капитализма. Сейчас на первый план, кажется, выходят военные конфликты. Это продолжение кризиса экономики в новой форме?
Георгий Дерлугьян: Проблема сейчас перемещается, казалось бы, из рыночной, экономической, плоскости в политическую. Называется она – выживание государств. На самом деле они связаны напрямую, это политэкономия. Государства стали плохо выживать, потому что им худо живется. У них теперь плохо получается собирать налоги в нужном объеме. Все государства за последние 150 лет набрали очень много обязательств. Причем не только перед бедными слоями. Можно, конечно, занять жесткую неолиберальную позицию и сказать: «К черту всех бедных!» Но обязательства-то были набраны перед военными, перед чиновниками, которых к тому же стало в разы больше. Военным помимо денежного содержания обещано, что их хорошо вооружат. А как отказаться от того, чтобы в государстве было Министерство по чрезвычайным ситуациям? Это значит, что чрезвычайные ситуации будут решаться как в Средние века: просто вымиранием городов. Приходится за все это платить. Государство берет это на себя, хочет оно или не хочет. И у государств не хватает налоговой базы по всему миру. Государства встают перед вопросом: когда, что и за счет кого резать? Эта проблема часто не решается, потому что никто и не может ее решить. Она отодвигается до того момента, когда, как в Сирии, начинает происходить развал. В Сирии торгово-коммерческая активность была сосредоточена в малых, второстепенных городах, где как раз восстание и произошло. Почему? В Сирии с 50–60-х годов активно росли крестьянские хозяйства, и она кормила страны Персидского залива. Но сельское хозяйство сильно пострадало в последнее время от засухи: изменение климата, очевидно, все же идет. Сельскохозяйственное население стало приходить в города и селиться на окраинах в качестве мигрантов. В крупных городах им было труднее устроиться, они стали приходить в малые, торговые города. Те стали уже по полмиллиона человек, там и началось восстание. Кстати, обратите внимание, что восстания арабской весны все начались во второстепенных городах: в Александрии, а не в Каире, в Бенгази, а не в Триполи, где-нибудь в Даръа, а не в Дамаске. Там нет таких рабочих мест, когда можно кормиться вокруг крупных банков, государственных министерств. В этих городах просто здоровенные трущобы. Поэтому там и вспыхивает, и думаю, что мы будем еще больше это видеть.
Михаил Рогожников: В минувшие лет 20 были очень популярны теории космополитического характера, описывающие суверенную государственность как архаизирующийся институт. Она должна была замещаться международными организациями типа МВФ и даже транснациональными корпорациями. Имеет ли это отношение к реальности в принципе, а также к конфликтным сторонам сегодняшней реальности?
Георгий Дерлугьян: Валлерстайн предсказывал в 80-е годы, что государства становятся все менее легитимными: их режимы не выглядят законными для населения и не выглядят такими пугающими, как раньше. Это не потому что мы поверили в права человека, но сами репрессивные аппараты этих режимов поняли, на примерах террора 20–30-х годов, что те, кто осуществляет террор, являются, как правило, его же первыми жертвами при следующем витке. Во-вторых, тех, кто проводит террор и репрессии, тоже надо кормить, и неплохо. Это, кстати, очень хорошо видно на примере Египта, он пошел путем – при Мубараке – раздувания полицейского аппарата и путем подкормки генералитета, который получил очень хорошие синекуры. Всем известные Хургада и Шарм-эль-Шейх, это бывшие военные базы. С другой стороны, был подход Каддафи: он решил своих военных уморить голодом, а полагаться на небольшие группировки высококвалифицированных наемников – мы тоже видели, к чему это привело. Значит, мы видим проблему, когда государства рушатся. Это и Ближний Восток, схожие процессы происходят с Украиной. И на Западе происходит нечто аналогичное, но там все-таки государства имеют гораздо более прочный скелет. И поэтому скелеты в общем еще стоят, но механизмы принятия решений заклинивают. Мы это хорошо видели на примерах Евросоюза или того, что республиканцы творят в американском конгрессе, например, при принятии бюджета. Это также способствует массовому разочарованию населения в этих политических структурах, ведет к попыткам заменить их чем-то другим. Но как? В богатых странах будет все больше закрытых сообществ, gated community. В общем случае это коттеджный поселок, окруженный забором, с частной охраной. Люди более или менее состоятельные, на Западе и в странах третьего мира, пытаются селиться ближе друг к другу, создавая такие кооперативы по взаимному обеспечению частной безопасности, с частными источниками воды, вывоза мусора, частными школами. Это ситуация с Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, где состоятельные люди вообще предпочитают летать на вертолете, чтобы их не захватили в заложники. Это ситуация Пакистана и, конечно, ситуация, все более узнаваемая в России.
Михаил Рогожников: У нас есть знаменитая Рублевка.
Георгий Дерлугьян: И кроме нее у нас огромное количество разных градаций этой Рублевки, где-то подальше от города закрыться забором, нанять частную охрану. Все больше и больше частных секьюрити по всему миру. А там, где и это все разваливается, где еще людям искать безопасности? У полевых командиров. Возникают религиозные организации либо какие-то полевые командиры как замена государству. Замена очень неполная, потому что, извините, полевой командир или олигарх вам университетскую систему создать и поддерживать не сможет. И поэтому государства все меньше и меньше. У Валлерстайна есть такая замечательная цитата: «Никто особенно никогда не любил государственную власть, но все на нее соглашались, потому что она обещала безопасность и какой-то экономический прогресс. Но если государство не обеспечивает ни безопасности, ни прогресса, то зачем его терпеть? А если никто не обеспечивает ни безопасность, ни экономический прогресс – то как же жить без государства?» Вот это называется противоречием: зачем верить государству, если оно не справляется, а с другой стороны – как без него жить? Вот это, кстати, ситуация с распадом СССР: он никому не нравился, включая собственную номенклатуру, но как только он распался, многим стало очень его не хватать. Вот чем бы я объяснял Донбасс? Стремлением восстановить государство советского образца. А у другой стороны – там надежда на то, что придут европейцы и создадут государство.
Михаил Рогожников: Вначале мы говорили о том, что накладываются финальные фазы трех циклов: завершается кондратьевский цикл, а какие еще два?
Георгий Дерлугьян: Цикл американской гегемонии и, видимо, вообще цикл существования самой капиталистической миросистемы. Исторически капитализм неуклонно усложнялся через интернализацию (превращением из внешних во внутренние) издержек. На охрану – так появляется капиталистическое государство. Производственных – ведь ранний капитализм был торговым, он торговал тем, что производили традиционными способами. Чтобы снизить транзакционные издержки, надо было наладить бесперебойно действующие рынки. США сумели это сделать, создав гигантские корпорации, которые, как супертанкеры, устойчивы на волнах. У нас очень часто забывают, что регулирование в значительной степени – это не госрегулирование, а корпоративное, это огромные монополии, у которых есть свои плановые отделы. США действительно сумели интернализовать транзакционные издержки, а также социальные издержки на уровне ядра миросистемы. Это мы воспринимаем как возникновение среднего класса. Своих бывших рабочих они после 1945 года сделали средним классом. Но встает теперь следующий огромный вопрос: кто, какая организация уже на мировом уровне сможет интернализовать производственные, социальные, а теперь еще и экологические издержки? Несколько сот миллионов западных рабочих – это одно дело, а несколько миллиардов рабочих со всего мира – это уже совсем другое дело. Кто будет их всех кормить? Возможно ли это в рамках капитализма, при сохранении частного присвоения прибыли? Капиталисты боятся регуляции, потому что действительно к 1970-м годам встал вопрос о том, что их могут экспроприировать. Вот тогда появилось чувство, что капитализм кончается. После этого они стали выбивать ногой буквально двери из своих национальных государств и выбегать в глобальное пространство, где нет пока никаких налоговых органов. Вот и все. Вот это история глобализации. Валлерстайн говорит без обиняков: наступившая эпоха – это ад на земле. Прежде чем наступит рай, должен наступить ад. Ад на земле – это переходы от одного режима гегемонии к другому. Переход задан тем, что старый режим износился, он накопил столько противоречий, что уже не работает. А что собой будет представлять новый режим – никто до сих пор не знает.
Михаил Рогожников: Этот рай будет связан с ростом Китая как рынка сбыта?
Георгий Дерлугьян: Нет, ни в коем случае. На самом деле это добавит ада. Потому что глобализация – это в общем яд для капиталиста. Потому что капитализм интересен капиталисту тогда, когда большую часть времени капиталисты выигрывают на рынке, для этого их не должно быть слишком много. Кто будет заниматься инвестиционной деятельностью, когда кругом очень опасные провалы? Когда 10 тысяч китайских транснациональных корпораций выйдут на мировой рынок, когда 100 миллионов индийских управленцев, с умеренными претензиями по заработной плате через Интернет начнут искать рабочие места на глобальном пространстве – спрашивается, что тогда произойдет с Евросоюзом и США? Это огромная перегрузка всей системы. Рэндалл Коллинз ставит вопрос: может ли капитализм погибнуть от того, что слишком много стало капиталистов? Хватит ли на всех капиталистов приемлемой для них нормы прибыли? Если нет, что они захотят тогда? Капитализм мог закончиться уже в 29-м году. Он мог кончиться фашизмом, а фашизм – вполне устойчивая конфигурация, не капиталистическая, но при этом устойчивая. То есть фашистский потенциал по всему миру растет несомненно, и исламисты – это фашизм, и в Европе мы видим фашистские реакции. Мы всегда говорим, что после капитализма – мы привыкли уже – социализм. Хотелось бы надеяться! Как говорила Роза Люксембург: либо социализм, либо варварство.
Михаил Рогожников: Не ведет ли железная логика событий нас к войне, столкновению крупных держав, вплоть до атомного конфликта?
Георгий Дерлугьян: А почему мы себе воображаем войну как столкновение крупных держав – потому что предыдущие были такие? Разве война уже не идет по всему Ближнему Востоку, и не только? Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, беспрецедентной со времен Римской империи, когда у нас сейчас действительно мир-империя. США, которые имеют колоссальный внешний долг, в основном в Китае и Японии, могут не бояться, что им этот внешний долг предъявят, пока понятно, что они правят миром. Ну не решатся японцы и китайцы идти к самому главному и обращаться с ним, как будто с Мексикой. Для этого надо быть главным. Любой ответственный глобалист, который занимается макроисторией, может дать только структурный прогноз: что возможно. Я даю структурный прогноз, что невозможны пока сильные государства. Будет идти эрозия дальнейшая, хотя будут и попытки укрепления государств, безусловно. Перед нами практически неизбежность дальнейшего распространения ядерного оружия. Мы вступили в очень опасный период возможного применения ядерного оружия, и это не обязательно будут какие-нибудь великие державы.
Михаил Рогожников: В этой ситуации существует ли какая-либо рациональная линия для политика?
Георгий Дерлугьян: Я всегда говорил, что самая рациональная линия для политиков – это читать работы макроисториков, но поступать как подсказывает им интуиция, потому что пальцы должны быть на пульсе. Никакой эксперт не держит пальцы достаточно близко на пульсе. Это, к сожалению или к счастью, доля политиков – их огромная ответственность. У них должна быть интуиция, но она должна подпитываться каким-то материалистическим анализом того, как происходят дела. У них, конечно, большая проблема: надо выбрать кого слушать, это нелегкая проблема. Идет серьезная борьба, и одно из противоречий системы, как и накануне развала СССР, – то, что у нее нет адекватных советников. Что-то довольно неожиданное должно будет рано или поздно произойти с экономистами. Сегодня это самовоспроизводящаяся каста, которая уже 35 лет не наняла никого, кроме учеников Милтона Фридмана в каком-то поколении. Рыночно ориентированное образование произвело и потребителей, и производителей этого «здания». Которые могут пока позволить себе не реагировать на идущие отовсюду очень тревожные сигналы.