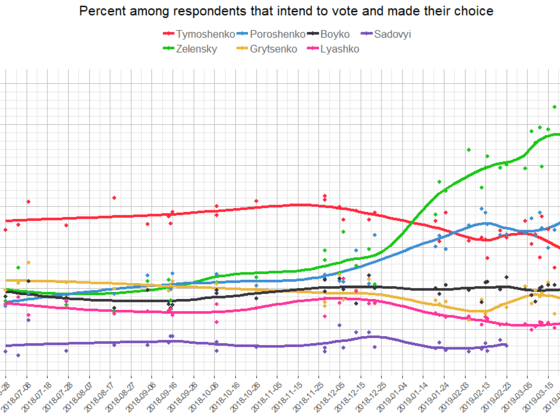Борис Докторов: Володя, Вы – человек публичный, основные факты Вашей биографии легко найти в веб-сети. Вы окончили с отличием престижный технический ВУЗ, поработали пару лет по специальности и ушли в область практической политики и анализ политических процессов. Почему Вы сразу не поступали, скажем, на исторический или философский факультет ЛГУ? Может быть, родители не поддерживали Ваши гуманитарные интересы?
Владимир Гельман: К моменту окончания школы у меня не было четко оформленных интересов: история мне не настолько нравилась, чтобы сделать ее своей профессией (к философии у меня интереса не было, да и нет). Также, я не стремился связываться с официальной идеологией. Но главное – поступление в вуз рассматривалось как способ избежать призыва в армию, и подача документов в ЛГУ была бы наименее рациональной стратегией: в 1982 году шансы на поступление у еврея были близки к нулю. Я подал документы в ближайший к дому вуз, где имелась военная кафедра, и поступил на факультет с относительно низким конкурсом.
Борис Докторов: Вы блестяще окончили Политехнический институт, полагаю, что и школа была закончена Вами вполне успешно. Почему поступление в вуз Вы рассматривали лишь как способ избежать призыва в армию, но не как, скажем, приобретение профессии «на всю оставшуюся жизнь»?
Владимир Гельман: Сказать по правде, немногие люди в 17 лет способны осмысленно и успешно выбрать профессию «на всю оставшуюся жизнь». Я не был исключением: возможно, что и к лучшему.
Борис Докторов: Вы родились в Ленинграде, Ваши родители – тоже ленинградцы порождению? Кто они по профессии?
Владимир Гельман: Отец, Яков Михайлович Гельман (1939-2005), родился в Ленинграде, вырос на Урале, в 1964 году женился на маме, Любови Исааковне Тайц (в замужестве Гельман, 1937-2013) и переехал в родной город, много лет работал прорабом на стройке. Мама родилась и всю жизнь прожила в Ленинграде, работала нормировщицей на оборонном предприятии. Даже по советским стандартам мы жили более чем скромно, родители копили деньги на кооперативную квартиру, потом на дачу; но на книгах не экономили, отец любил читать и собирал библиотеку. Я был довольно проблемным ребенком, в детстве много болел, и в целом приносил родителям куда больше проблем, чем радостей, но они меня поддерживали во многих начинаниях. К сожалению, я ценил их поддержку в недостаточной мере.
Борис Докторов: Володя, совсем недавно в своем блоге Вы записали: «…и будучи в детстве и юности практически полным социальным аутсайдером…». Как это (аутсайдерство) понимать? В чем оно выражалось? Чем оно было вызвано, порождено?
Владимир Гельман: Коль скоро Вы цитируете мой блог, я также его процитирую: «… школьная жизнь мне была глубоко чужда во всех отношениях. Я учился не в специализированной, а в более чем заурядной школе на окраине Питера, а учителя, за редким исключением… вели занятия скучно, в основном пересказывая книги и учебники, которые я читал и без них. Но главное – общение со сверстниками мне приносило почти одни разочарования – едва ли не единственным обращением в мой адрес было "дашь списать?", те качества, которые ценились в их среде (брутальность, агрессивность, желание и умение демонстрировать окружающим свою "крутизну") мне были напрочь не присущи, а наши круги интересов практически никак не пересекались. Вдобавок ко всему лет до 15 я довольно часто болел и пропускал занятия по объективным причинам, напрочь выпадая из всех коммуникаций, в которые и без того был очень слабо вовлечен… Впрочем, за пределами школы у меня и вовсе почти не было контактов со сверстниками. Поэтому, будучи почти 100% аутсайдером, на переменах я сам по себе бродил по коридору или стоял у окна, после уроков сразу уходил домой и/или гулял в одиночку (любимыми моим развлечениями тех лет были прогулки по центру города и поездки на трамваях, ну и, конечно, чтение), и даже small talks со сверстниками на темы, напрямую с уроками не связанные (например, о футболе), были для меня большим и очень редким событием – между ними подчас проходили месяцы…» (взято отсюда).
Борис Докторов: Прогулки по городу… я сам был большим любителем, какие уголки города Вас манили? А сейчас есть желание пройтись по тем местам?
Владимир Гельман: Любимые с детства места – район вблизи Таврического сада (где я жил до 1978 года) и Васильевский остров (где живу сейчас). Время от времени гуляю по этим местам, но реже, чем хотелось бы.
Борис Докторов: Может быть, мы жили с Вами в соседних домах и ходили в одну и ту же школу, правда, в разное время? Я жил в огромном доме в Мариинском проезде с аркой на Кавалергардскую (тогда – Красную Конницу) и начинал учиться в 154–й школе, на углу Кавалергардской и Тверской…
Владимир Гельман: Я рос в доме на углу Потемкинской улицы и улицы Каляева (ныне – Захарьевская). Дом, построенный в 1907 году, был средоточием больших коммуналок: в квартире, где жила наша семья, в разные времена размещалось от 9 до 11 семей. Мы впятером (родители, бабушка, брат и я) жили в 36-метровой комнате с видом на двор-колодец. Начинал учиться в 187-й школе на углу Потемкинской и улицы Чайковского (позднее там разместился экономический факультет ЛГУ), затем ходил в 195-ю школу на улице Воинова (ныне Шпалерная), а когда в это здание въехал ИСЭП, меня перевели в 197-ю школу на улице Петра Лаврова (ныне Фурштатская), куда я ходил до 1978 года.
Борис Докторов: Да, близко, но на другой стороне Таврического сада… Что читали? Где книги доставали?
Владимир Гельман: Читал много, но бессистемно. Дома были собрания сочинений и антологии (мне особенно нравилась «Библиотека современной фантастики»), за какими-то книгами я сам стоял в очередях в библиотеках, мама брала почитать у знакомых. Обратимся снова к моему блогу: «Моими главными собеседниками в те годы были книги, и период обучения запомнился, прежде всего, «запойным» чтением… Все происходившее «в реале» воспринималось на фоне художественной литературы. Так, о смерти Брежнева сообщили в тот день, когда мама принесла домой на несколько дней одолженный ее коллегой по работе томик «Мастера и Маргариты», и последующие траурные церемонии с многочисленными орденами на лафетах служили для меня не более чем иллюстрацией к коровьевским штучкам. «Андроповские» облавы в магазинах и кинотеатрах в разгар рабочего дня проходили, когда я читал журнал «Звезда» с «Лачугой должника» Шефнера, и оттого выглядели как эдакое продолжение тамошних четверостиший… В преддверии американских президентских выборов 1984 года (в ходе которых отечественная пропаганда изо всех сил «болела» против баллотировавшегося на второй срок Рейгана), я прочел «Всю королевскую рать», невольно проводя параллели между главным героем романа Вилли Старком и тогдашним американским президентом, к которому стал испытывать тайную и необъяснимую симпатию…».
Борис Докторов: Вы закончили школу в 1982 году, начали учиться в Политехническом институте. Там чувство аутсайдера отступило или усилилось? Какие-либо интересы появились? Инженерные или к общественно-политическим наукам?
Владимир Гельман: В Политех я поступил в 1982 году. По-прежнему оставался аутсайдером. Учеба дала немало полезных навыков, но не могу сказать, что инженерная работа была мне глубоко интересна. Я старался выполнять ее добросовестно, и не более того (но и не менее). Интерес к общественной жизни возник уже позднее, в годы перестройки.
Борис Докторов: До апреля 1985 года оставалось немного… Как Вы восприняли приход М.С. Горбачева? Что именно и в силу каких причин вызвало Ваш интерес к событиям в стране?
Владимир Гельман: Приход к власти Горбачева и его первые шаги вызывали энтузиазм: на фоне ни на что не способных косноязычных и догматичных прежних вождей, наконец, появился более молодой и образованный руководитель, говоривший вполне адекватные вещи и вызывавший человеческую симпатию. Идеи обновления страны на основе гласности и открытости мне импонировали. Действительность начала 1980-х была настолько убогой, что даже словесные импульсы порождали надежды на улучшение ситуации. Вскоре общественные проблемы стали активно обсуждаться в прессе, и эти публикации усиливали интерес к событиям в стране. Насколько я могу судить, такая реакция на заявленные перемены была довольно распространенной.
Борис Докторов: Конечно, распространенной, но и разной: по силе и направленности… Володя, из всего рассказанного Вами о школьно-студенческих годах не следовало однозначно, что Вы от отстраненности перейдете к той или иной активности? Как этот переход происходил? Спонтанно или внутренне-управляемо? Что Вас побуждало не только читать, размышлять, но задумываться о собственной деятельности?
Владимир Гельман: Довольно долгое время я воспринимал политические перемены в стране подобно болельщику, симпатизировавшему перестроечной «команде». Шаги на пути либерализации, публикации прежде недоступных литературных произведений и разоблачительных статей в СМИ о прошлом и о настоящем, публицистические передачи и публичные дискуссии на телевидении – все это воспринималось как победы над противниками перестройки – сталинистами и националистами. В 1988 году начала появляться информация о создании неформальных общественных объединений в поддержку перестройки, в том числе и в Ленинграде. Примерно в то же время у меня нарастали и сомнения в том, что перестройка – это продуманный и целенаправленный проект. Шаги Горбачева и его соратников часто были непоследовательны и неоправданны. Демократические СМИ («Огонек», «Московские новости») описывали эти «зигзаги» как борьбу сторонников и противников перестройки в руководстве страны и призывали общественность к участию в этой борьбе на стороне сторонников реформ. В итоге две разные линии моего восприятия перемен – отстраненная и активистская, позиции наблюдателя и гражданина – пересеклись: в сентябре 1988 года я примкнул к набиравшему тогда обороты движению за демократизацию.
Борис Докторов: Не страшно было? Ведь Вы понимали или чувствовали, что меняете активность в отстраненности на активность в активности? Причем в никому не известной социальной сфере?
Владимир Гельман: Страха быть наказанным за активизм я не испытывал: режим тогда уже не был репрессивным, и слова в поддержку гласности и демократизации звучали с самых высоких трибун. Страха перед новой для себя сферой деятельности у меня тоже не было (тем более что первоначально я «вышел на поле» как игрок-любитель, и не планировал делать политику или ее изучение своей новой профессией). Да и в целом для времен перестройки смена траекторий не была чем-то необычным: в те же годы кто-то создавал кооперативы, кто-то уезжал за границу на ПМЖ…
Борис Докторов: Это было в полной мере самостоятельное решение или к тому моменту у Вас все же была какая-либо референтная группа?
Владимир Гельман: К тому времени мой круг общения заметно расширился, но участвовать в общественных движениях я решил сам, и ни с кем это решение не обсуждал. Впрочем, каких-либо возражений у родных и знакомых оно не вызвало.
Борис Докторов: Как раз осенью 1988 года Вы после окончания института начали работать по профессии. Эта «подвижка» в Вашей жизни каким-либо образом повлияла на Ваше решение?
Владимир Гельман: Я начал работать инженером в феврале 1988 года. Но прямой связи между этими изменениями и последующем участием в демократическом движении не было.
Борис Докторов: Итак, с чего же началась Ваша «новая жизнь»? Как это происходило?
Владимир Гельман: Ну не так чтобы совсем уж «новая жизнь»: изначально это было не более чем дополнение к прежней жизни. Осенью 1988 года демократическое движение находилось в «клубной фазе»: проходили публичные дискуссии, разного рода собрания типа «тусовок». На них выступали ораторы, вокруг обсуждались текущие события. Собиравшаяся там публика была довольно пестрой по своему составу, большинство участников существенно старше меня. Ситуация сильно изменилась в начале 1989 года, когда началась кампания по выборам народных депутатов СССР и в ходе нее сложился комитет «Выборы – 89», поддерживавший демократически настроенных кандидатов и выступавший против городских партийных бонз и их ставленников. Еще раз обратимся к моему блогу: «… Тогда шла кампания по выборам на Съезд народных депутатов СССР, в Питере было выдвинуто немало альтернативных кандидатов, но сито окружных предвыборных собраний прошло лишь двое из тех, кто изначально был поддержан нарождавшейся оппозицией в лице неформального демократического движения – главный редактор литературного журнала "Нева" Борис Никольский и кандидат в члены клуба "Перестройка" инженер Юрий Болдырев – все остальные были отсеяны. Передо мной, как и другими активистами, встал вопрос о дальнейших действиях в ходе кампании. С одной стороны, можно было присоединиться к группам, боровшимся против безальтернативного кандидата – первого секретаря обкома КПСС Соловьева, баллотировавшегося в Невском районе. С другой стороны, можно было влиться в состав групп, поддерживавших демократов. После некоторых дискуссий с приятелями я предпочел второй путь – во-первых, в успех кампании против Соловьева, а тем более против первого зампреда горисполкома Большакова (он также баллотировался безальтернативно, но в национально-территориальном округе, охватывавшем весь город), я не верил – как оказалось, напрасно. Во-вторых, негативная кампания с ее главным лозунгом "Долой!" мне была стилистически не слишком близка. Неудивительно, что дальнейший выбор строился между участием в кампании одного из двух кандидатов – Никольского или Болдырева… Вокруг Никольского уже крутился штаб, в который были вовлечены разные деятели культуры, но также и некоторые отпугивавшие меня люди, которых было принято называть "демшиза"; кроме того, в его победе в центральных районах Питера над двумя другими интеллектуалами я не сомневался. Болдырев и люди вокруг него были мне стилистически (да и по возрасту) более близки, а его единственный соперник – первый секретарь горкома КПСС Герасимов – был более чем притягательной "мишенью". Так я выбрал собственную стратегию участия в кампании, принесшую мне позднее немало пользы».
Борис Докторов: Штаб (не помню, говорили ли мы тогда так) Юрия Болдырева? Пожалуйста, напомните основные положения его Программы, как они вырабатывались? В чем выражалось Ваше участие?
Владимир Гельман: Мое участие пришлось на этап предвыборной агитации и голосования: пикеты возле станций метро, раздача листовок, а главное – организация наблюдения на избирательных участках в день голосования и координация работы наблюдателей. Исход голосования превзошел все ожидания (Болдырев получил свыше 74% голосов против менее чем 20% у Герасимова). Я не склонен преувеличивать ни эффекты кампании, ни тем более свою собственную роль в ней. Но опыт участия оказался для меня очень полезен. Именно в это время произошло знакомство со многими людьми, сыгравшими немалую роль в моей последующей деятельности: это были не только политики и активисты, но и социологи.
Борис Докторов: Конечно же я постараюсь задать Вам вопросы о Вашем вхождении в круг политиков, активистов и социологов, но сначала – о политике Ю.Ю. Болдыреве. Можно ли сказать, что в 1989 году его программа содержала нечто уникальное, что обеспечило ему поддержу трех четвертей избирателей его округа, или просто ветер перемен дул именно в его паруса? И не он выиграл, а Герасимов не мог не проиграть? Какого типа политик Ю. Болдырев: в 1993 году он – среди создателей либерального избирательного блока «Яблоко», осенью 1995 года он вышел из него, а на президентских выборах 2012 года он был доверенным лицом Г.А. Зюганова?
Владимир Гельман: Выборы 1989 года на Съезд народных депутатов СССР с подачи Хантингтона получили название «опрокидывающие» (stunning elections): режим задумал эти выборы как средство повышения собственной легитимности, а они стали механизмом его делегитимации, по сути, служили референдумом по вопросу о недоверии советской политической системе. Скорее всего, первый секретарь горкома КПСС проиграл бы любому конкуренту. Но Болдырев сам по себе был яркой и неординарной личностью. Он ставил во главу угла вопросы демократической процедуры, подотчетности, разделения властей, проблемы местного самоуправления. В частности, именно Болдырев на Первом съезде народных депутатов впервые предложил проводить поименные голосования, с тем, чтобы избиратели знали позицию своих представителей в парламенте, он предлагал и механизмы отзыва депутатов. Независимый и принципиальный человек, он обладал собственной точкой зрения по многим вопросам, как правило, не примыкая к большинству и не соглашаясь на компромиссы. В США таких людей называют maverick – своего рода вечный диссидент, волк-одиночка. Им редко удается добиться успеха в политике (не только в России), и Болдырев не стал исключением. В результате острого конфликта он вышел из «Яблока», затем в 1998 году на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга создал «блок Юрия Болдырева», фактически распавшийся после того, как выдвинутые им кандидаты добились немалых успехов, затем и сам Болдырев проиграл выборы в Государственную Думу. Его политическая траектория уходила все дальше, и сегодня мы с Болдыревым вряд ли нашли бы общий язык друг с другом. Но в 1989-1995 годах общались довольно тесно, я очень многому учился у Болдырева, и остаюсь ему глубоко благодарен.
Борис Докторов: В интервью, которое мне дал покойный Леонид Кесельман десять лет назад (в 2005 году), он вспомнил, как импровизационно начал изучать на улице избирателей относительно их поддержки Ю. Болдырева. Это была одна из суббот февраля 1989 года. Далее он писал: «На следующий день я рассказал Марии Мацкевич и Владимиру Гельману, которые вместе со мной участвовали в этом инициативном «социологическом сопровождении» избирательной кампании, о своих воскресных приключениях, показал им полученные результаты и попросил продолжить работу и довести выборку хотя бы до 500 человек. В понедельник вечером у нас были такие данные. Где и как Вы познакомились с Кесельманом, вот уж кто буквально «горел» перестройкой… Вы помните тот опрос?
Владимир Гельман: В марте 1989 года, примерно за две-три недели до дня выборов, на одной из неформальных встреч предвыборной команды Болдырева, я познакомился с Леонидом Кесельманом и Андреем Николаевичем Алексеевым. Алексеев был публично известной фигурой, пользовался большим моральным авторитетом, и принимал участие в кампании Болдырева в качестве доверенного лица. Как человек дотошный и въедливый, он отслеживал нарушения закона со стороны избирательных комиссий и писал от имени команды кандидата всевозможные жалобы и протесты. Алексеев сыграл исключительно важную роль в моей профессиональной карьере, но это произошло несколько позже. Как раз на этой встрече Кесельман и сообщил участникам предвыборной команды о результатах своего опроса (возможно, что я ошибаюсь, но, кажется, я не принимал в нем участие: данные Леонид собирал самостоятельно вместе с Машей Мацкевич). Эти результаты обсуждались участниками команды в прикладном ключе: как надо вести агитацию и как надо готовиться ко дню голосования, чтобы не допустить провокаций и срыва выборов: вброса бюллетеней, организованного голосования за Герасимова, манипуляций со списками избирателей, etc. Все, кроме Кесельмана, были уверены в том, что официальные власти готовы прибегнуть к любым злоупотреблениям, чтобы не допустить победы Болдырева, но он утверждал, что мнение избирателей сформировано однозначно, и против него власти попросту не рискнут пойти. Уверенность и оптимизм Леонида произвели на меня сильное впечатление. Помню, что я активно возражал Кесельману, однако по итогам голосования оказалось, что прав был он, а не я. Наше общение продолжилось после того, как Болдырев стал депутатом: накануне второго тура голосования я принял участие в новом опросе (в других округах) в качестве интервьюера, а заодно помог Леониду и Маше в его организации.
Борис Докторов: Это все, так или иначе, – формы, скажем, политтехнологической деятельности. Когда и под влиянием каких обстоятельств началось Ваше скольжение в сторону анализа электоральных (наверное?) сюжетов? Когда Вы решили, что обратной дороги на производство для Вас нет?
Владимир Гельман: Я по-прежнему работал на предприятии и продолжал карьеру активиста. Мое общение с социологами носило прикладной характер: они представлялись как раз теми людьми, которые (как казалось мне тогда) понимали, что и как именно надо менять в городе и в стране. Что-то я у них узнавал, чему-то учился, какие-то статьи и книги, рекомендованные ими, читал, но собственно знания представляли для меня тогда не столько самоцель, сколько средство. Осенью 1989 года из активиста-«любителя» я стал почти «профессионалом». Поскольку одной из главных проблем кампании 1989 года по выборам народных депутатов СССР были манипуляции со стороны избирательных комиссий, то в ходе начинавшейся кампании по выборам депутатов Ленсовета и народных депутатов РСФСР (они прошли в марте 1990 года) крайне важным было присутствие в составе городской избирательной комиссии независимых от власти представителей общественности. Моя кандидатура была выдвинута ленинградским «Мемориалом» (который к тому моменту времени получил официальную регистрацию), и, приложив некоторые усилия, я оказался в составе городского избиркома. На первом же заседании комиссии встал вопрос о том, что один из членов комиссии должен работать в ее составе на освобожденной основе в течение всего периода выборов. Я тут же вызвался в качестве добровольца и в итоге был командирован с прежнего рабочего места в распоряжение Ленгорисполкома с сохранением оклада. С этого момента и началась новая жизнь: на предприятие я уже не вернулся. Надо сказать, что социологи поддерживали меня в стремлении попасть в состав избиркома и по ходу кампании давали немало полезных советов.
Еще раз обратимся к моему блогу: «… я, в свои 24 года, оказался в центре избирательной кампании в Питере, будучи членом городской избирательной комиссии и одним из координаторов неформального блока "Демократические выборы – 90". С одной стороны, будучи одним из двух независимых членов комиссии, я зорко следил за тем, чтобы минимизировать возможные злоупотребления со стороны властей и попытки препятствовать кампании демократов, с другой – предпринимал усилия по информационному обеспечению кампании – начиная от "разведения" поддержанных демократами кандидатов по округам (где-то получалось, где-то нет) и заканчивая доведением сведений о кандидатах через СМИ. Самая популярная городская газета "Смена" предложила всем кандидатам и всем политическим силам обозначить свои предпочтения и за два дня до первого тура выборов опубликовала списки кандидатов по городским и республиканским округам. Публикация стала своего рода информационной "бомбой": комиссия вызвала на ковер редактора "Смены" Югина, который сам баллотировался в народные депутаты РСФСР, и обвинила его в нарушении закона о выборах, "провокации", и т.д. Воспользовавшись замешательством, я на заседании комиссии предложил ее руководителям выступить с официальным опровержением публикации "Смены", что и было сделано. Председатель комиссии, ректор Политеха Васильев, и один из ее членов… появились в прямом эфире тогда суперпопулярного Ленинградского ТВ сразу после хита эфира – "600 секунд" с Александром Невзоровым – и обрушили начальственный гнев на "Смену". В результате весь город знал, за кого надо голосовать, а за кого нет: насколько я могу судить, эти сведения помогли многим избирателям определиться с выбором. Уже первый тур показал, что официальные кандидаты КПСС почти повсеместно провалились, второй тур показал, что у "Демократических выборов-90" оказалось большинство в горсовете. В ночь на 19 марта в честь победы демократов над радиоузлом Ленинградского порта (там находилась наша неформальная штаб-квартира с шестью городскими телефонами для звонков наблюдателей) был поднят трехцветный российский флаг (провисел целые сутки), а в 4 часа утра я позвонил… тогдашнему секретарю обкома КПСС по идеологии Виктору Ефимову, и от имени "Демократических выборов-90" поздравил его с прекращением власти КПСС в городе».
Борис Докторов: С тех пор прошло ровно четверть века, я могу многое забыть… это в той избирательной кампании успешно участвовали социологи Альберт Баранов, Валерий Глухов, Борис Максимов, Петр Шелищ? Служба Леонида Кесельмана проводила опросы, строила прогнозы?
Владимир Гельман: Баранов, Глухов и Максимов стали депутатами Ленсовета, все они входили в список поддержки «Демократических выборов – 90» (Шелищ был избран депутатом Государственной Думы по списку «Яблока» в 1993 году). Кесельман проводил опросы, которые позволяли рассчитывать на успех кампании, мы много контактировали в этот период с ним и с другими социологами. Одна из неформальных встреч представителей демократических организаций в ходе кампании в феврале 1990 года проходила в помещении Института социологии на Серпуховской улице при активном участии «хозяев дома».
Борис Докторов: Итак, выборы закончились? Как дальше разворачивалась Ваша жизнь?
Владимир Гельман: А дальше передо мной встал непростой выбор дальнейшей профессиональной траектории. О том, как и почему был сделан этот выбор, я рассказал в своей новой книге Authoritarian Russia: Analyzing Post-Soviet Regime Changes (6, pp.xi-xiii). Происходило это так: «В приятный солнечный день лета 1990 года я сидел в приемной Мариинского дворца в Ленинграде. Я был 24-летним активистом демократического движения, которое недавно одержало победу на выборах в городской совет. После этой победы я получил два очень разных предложения о трудоустройстве от двух очень разных групп моих знакомых. Одной из них была команда социологов, которые вели исследования социальных и политических изменений в городе и в стране: они пригласили меня в свои ряды, утверждая, что мои инсайдерские знания о новых общественных движениях представляют большое преимущество для успешной профессиональной карьеры по изучению политики. Другая группа включала ряд новых депутатов, которые были заняты реформированием органов власти в городе и были уверены в том, что мой опыт участия в выборных кампаниях и репутация активиста помогут в том, чтобы улучшить довольно хаотичный процесс принятия решений. Мне предстоял выбор между должностью младшего научного сотрудника в Институте социологии Академии наук и должностью среднего уровня во вновь формировавшемся аппарате городского совета. Второй вариант выглядел весьма привлекательным, и после ряда бесед я пришел на интервью с председателем совета Анатолием Собчаком. Профессор права, избранный на Съезд народных депутатов СССР в 1989 году, он приобрел огромную популярность как яркий оратор и жесткий критик советской системы; годом позже, депутаты Ленсовета пригласили его занять пост председателя совета после того, как он получил место депутата в ходе довыборов. Как часто бывало, Собчак опаздывал, и, ожидая его, я трепался с секретарем в приемной по имени Дима, симпатичным, улыбчивым и разговорчивым молодым человеком моего возраста. Наконец, Собчак прибыл, и мы прошли в его огромный кабинет с прекрасным видом на Исаакиевский собор. Ни о чем меня не спрашивая и даже не замечая моего присутствия, мой потенциальный босс начал длинную и страстную речь, как если бы он выступал перед сотнями слушателей, хотя кроме нас в кабинете никого не было (я думаю, что он использовал эту возможность как тренировку перед одним из публичных выступлений, которые в то время принесли ему всесоюзную славу). Речь Собчака была полной яркой риторики, но довольно пустой по своему содержанию: он ругал прежнюю систему, критиковал текущую нестабильность, и обещал, что город будет процветать под его руководством. После казавшегося бесконечным монолога, он сделал паузу, и я смог задать вопрос, казавшийся мне ключевым для моей будущей работы: «Анатолий Александрович, как Вы видите систему власти в городе, которую Вы хотите создать?»
Собчак, наконец, повернулся ко мне, спустившись с небес на землю, и сменил тон речи на более откровенный: «у нас очень много депутатов городского совета, они шумные и плохо организованные: они должны в основном работать в округах, вести прием граждан и отвечать на жалобы населения. У нас есть горисполком: он должен заниматься городским хозяйством, дорогами, озеленением, протечками, но не выходить за эти пределы. А я (широкий взгляд вокруг кабинета) с помощью моего аппарата (пристальный взгляд на меня) буду проводить политику в городе». Я был шокирован, услышав столь циничные суждения от человека, обладавшего публичным имиджем символа демократии. «Но ведь это почти то же самое, что было при коммунистах… а как же демократия?» Собчак, вероятно, был удивлен тем, что тот, кто предположительно мог стать членом его формирующейся «команды», задал ему столь наивный вопрос. Он ответил мне четко, с интонацией, с которой университетские профессора порой говорят, претендуя на то, что они сообщают прописные истины первокурсникам: «мы теперь у власти – это и есть демократия». Это высказывание потрясло меня: большие надежды на демократическую политику разом рухнули, и я не мог и не хотел стать маленьким винтиком в нарождавшейся политической машине. Я лишь повернулся спиной к Собчаку и, даже не попрощавшись, покинул его кабинет. Затем я дошел пешком до Института социологии и ушел в мир науки вместо мира политики.
Это был поворотный пункт всей моей профессиональной карьеры. К сожалению, у меня не было возможности получить формальное образование в сфере социальных и политических наук, хотя, несмотря на это (или, возможно, благодаря этому), я позднее стал профессором политологии в двух университетах и в двух странах. Но те уроки, которые я получил от Собчака много лет назад в его кабинете, стали для меня не менее важны, чем дюжины учебников по нормативной политической теории. Я понял, что главная цель политиков – это максимизация власти. Иными словами, они стремятся находиться у власти с помощью любых средств так долго, насколько это возможно, и иметь так много власти, насколько это возможно, вне зависимости от своей демократической риторики и публичного имиджа: в этом и состоит суть политики. Но проблема в том, что некоторым политикам удается достичь этой цели, а другие не настолько успешны. Поэтому в одних случаях мы наблюдаем диктатуры разного типа (от режима Мобуту в Заире до Лукашенко в Беларуси), а в других вариации иных политических режимов (отнюдь не всегда демократических). На деле, Собчак тоже не смог достичь своих целей и максимизировать власть в Ленинграде (после 1991 года – Санкт-Петербурге). Через шесть лет, в 1996 году, будучи мэром города, в ходе жесткой борьбы на выборах, он уступил с небольшой разницей голосов своему заместителю Владимиру Яковлеву. Другой заместитель Собчака, Владимир Путин, извлек уроки у своего руководителя и использовал их в своей карьере политика – но эти уроки отличались от моих в силу отличий между политикой и политической наукой. Путин, как минимум до настоящего времени, смог максимизировать власть в качестве президента и премьер-министра России, хотя сегодня он сталкивается с нарастающими вызовами. И Дима, которого я встретил в тот памятный день, тоже извлек для себя уроки. Дмитрий Медведев также занимал посты президента и премьер-министра России. Он по-прежнему симпатичный, часто улыбчивый и разговорчивый человек – но в известном смысле, он так и остался секретарем в приемной».
Борис Докторов: Сразу: о чем новая книга? Какое место занимают в ней Ваши биографические сюжеты, подобные выше приведенному?
Владимир Гельман: Эта книга о том, почему и как в России после краха коммунистического режима был построен новый авторитаризм. Ее аргумент сводится к тому, что политики всегда и везде стремятся максимизировать свою власть (следуя формуле Собчака: «мы у власти, это и есть демократия»), и те, кто пришли к власти в России после 1991 года – не исключение. Но поскольку препятствия на этом пути в случае России оказались недостаточно сильны, то в итоге российским лидерам успешно удалось достичь своих целей, хотя они сегодня и сталкиваются с различными вызовами. О «себе любимом» я пишу только в процитированном фрагменте: книга ведь не о моей биографии, а о биографии страны.
Борис Докторов: Вернемся к тому, что Вы выше назвали поворотной точкой в Вашей профессиональной деятельности. Поясните, пожалуйста, что же произошло, как происходило Ваше вхождение в новую среду? 21 августа 1990 года я был принят на работу в Ленинградский филиал Института социологии Академии Наук СССР в состав группы изучения динамики массового сознания, которой руководил Кесельман. Но наше с ним сотрудничество не задалось, и в результате я сперва фактически, а потом и юридически продолжил работу в секторе социологии общественных движений, возглавляемом Костюшевым. Найти свое место в новой среде мне оказалось непросто по нескольким причинам. Во-первых, я не обладал сколь-нибудь целостными знаниями теоретического плана, и не очень понимал их ценность: на фоне бурных политических событий 1990-1991 годов мне казалось важнее наблюдать вблизи текущие процессы своими глазами, чем читать книги. Во-вторых, я скептически относился к социологизму своих коллег: их стремление рассматривать политические процессы как проекцию общественных настроений и массовых предпочтений (которые фиксировали, в частности, опросы Кесельмана) встречало мое непонимание. Мне казалось, что дело обстоит прямо противоположным образом – общественное мнение есть не более чем побочный продукт борьбы политических сил, и граждане не формируют свои предпочтения самостоятельно, а всего лишь отражают в своем восприятии то, что происходит в элитах. Помню, что когда в одной из дискуссий с Костюшевым я высказал этот тезис, он заметил, что я рассуждаю не как социолог, а как политолог. Так я узнал, что являюсь политологом. В-третьих, и это было самым главным – у меня не было представлений о том, что именно и как именно мне надо делать в своем новом качестве: по большей части я был предоставлен сам себе, ходил на сессии городского совета и на собрания новых нарождавшихся политических партий и движений, писал публицистические тексты и доклады, но в общем и целом не могу сказать, что нашел себя на новом месте в течение первого года работы.
Борис Докторов: А какой точки зрения относительно природы общественного мнения – не только в России – Вы придерживаетесь сейчас, уже став политологом, но, на мой взгляд, понимающим логику социологии?
Владимир Гельман: Я и сейчас придерживаюсь той же точки зрения, что и в начале 1990-х годов. Обычно люди (не только в нашей стране) редко задумываются о политике, и уж тем более редко способны самостоятельно сформулировать свои позиции по тем или иным общественно значимым вопросам: это требует значительных усилий и затрат времени. Поэтому по большей части они ориентируются на СМИ, на лидеров мнений, на свой прежний опыт… Это отнюдь не значит, что общественное мнение не заслуживает внимания и/или пристального изучения – как раз наоборот. Но то, как порой его изучают многие отечественные специалисты, меня не слишком убеждает. По большей части они склонны собирать данные о том, что думают российские граждане по тем или иным вопросам, но весьма редко анализируют, почему они думают именно так, а не иначе. И уж тем более из этих публикаций непонятно, как из того, что именно люди думают, следует то, что именно они делают. Впрочем, в данном случае я выступаю не как специалист в данной сфере, а всего лишь как потребитель научной продукции, производимой полстерами, и мои суждения носят вполне себе дилетантский характер.
Борис Докторов: Хм… «…по большей части я был предоставлен сам себе…». Так у Вас были идеальные условия для освоения новой действительности, как Вы всем этим воспользовались?
Владимир Гельман: Сказать по правде, пользовался не слишком расчетливо. По-хорошему, мне надо было бы систематически учиться новому для себя ремеслу, причем не «на коленке», а так, как мои будущие коллеги по Европейскому университету – Вадим Волков и Олег Хархордин, поступившие на PhD (соответственно, в Кембридже и Беркли). Но я не то чтобы упустил эту возможность, а попросту ничего о ней не знал. Да и не уверен, что тогда захотел бы потратить на учебу за границей несколько лет, когда временной горизонт измерялся месяцами: чуть ли не каждый день в 1990-1991 годах в стране случалось что-то судьбоносное, и я пытался непосредственно наблюдать текущую политическую ситуацию, и, по мере своего понимания, осмысливать и анализировать происходящее. В ходе этих наблюдений (в той или иной форме они продолжались примерно до конца 1995 года) я набрался многих интересных впечатлений, но по существу дела у меня мало что получалось. К лету 1991 года я пришел к выводу, что «ошибся дверью», придя в Институт социологии, и уже собрался было оттуда уволиться. Но оказалось, что к тому времени я отработал уже почти год и что мне был положен отпуск, из которого я вышел на работу 19 августа 1991 года. События последующих трех дней и то, что произошло затем, снова кардинально изменили мою траекторию. Нет нужды говорить, что в дни путча я был на улицах и в Ленсовете, наблюдал всплеск общественного подъема, реакцию политиков, активистов, коллег и обычных граждан. После ликвидации обкома КПСС в моих руках оказались текущие материалы подразделения обкома, отвечавшего за работу с общественными объединениями, возникла даже идея изучать не сами общественные движения (чем, по идее, занимался сектор Костюшева) а то, как реагируют власти на эти движения (развития она не получила). Но вскоре в Питер (буквально в те дни, когда город был только переименован из Ленинграда в Санкт-Петербург) приехала из Оксфорда Мэри Маколи (Мэри неоднократно бывала в Институте социологии и раньше, но тогда мы с ней не пересекались). Она интересовалась тем, что именно происходило в городе в эти дни: оказалось, что каждый из коллег-социологов видел какой-то кусок картины, но мало кто знал, как, например, вели себя в ходе путча депутаты горсовета. Ей порекомендовали меня как «знатока» политической кухни, мы встретились в гостях у Ани Темкиной, долго беседовали, потом проговорили допоздна… потом Мэри спросила меня, можем ли мы встретиться в другой день в Институте социологии. Во время этой встречи я получил неожиданное предложение. И тут оказалось, что Мэри планировала провести исследование местной политики в Петербурге и в других регионах России, что ей нужен для этой работы ассистент, который мог бы собирать материалы, организовывать интервью, и она предложила мне выступить в этой роли, заодно пообещав, помимо более чем щедрой по тем временам оплаты, искать в Оксфорде деньги для того, чтобы я мог пройти там стажировку. Это был лотерейный билет, который мне принес очень крупный и долгосрочный выигрыш.
Борис Докторов: Есть несколько иностранных ученых, которые внесли большой вклад в развитие постперестроечной российской социологии. Я не берусь давать даже приблизительный список имен этих ученых, назову лишь некоторых, чтобы обозначить конкретнее, о чем собственно речь. Это: Теодор Шанин, Майкл Буравой, Майкл Сваффорд, Алекс Далин, Саймон Кларк, уверен, я кого-то не назвал. Ясно, что Мэри Маколи – из этой группы людей. Не могли бы Вы рассказать о Вашем участии в ее проекте и о Мэри как о человеке…
Владимир Гельман: Лучшее определение роли Мэри в моей жизни дала моя мама, как-то процитировав название популярного в 1990-е годы латиноамериканского сериала – «Моя вторая мама». Опять обратимся к моему блогу: «Если вывести за скобки первую мою зарубежную поездку в Оксфорд (которую организовала Мэри), то работа как таковая заключалась в следующем. Помимо организации для Мэри интервью с питерскими политиками, я приходил каждый понедельник в 10 утра в квартиру, которую купила Мэри на Васильевском острове (много позже она продала ее мне на более чем льготных условиях), и должен был ответить на любой вопрос своей работодательницы, касающийся российской политики. Если я не мог ответить сразу, брал тайм-аут на неделю, читал газеты, искал материалы etc. и докладывал о результатах в следующий раз. Совместная работа повлекла за собой написание совместной статьи (для меня она стала первой публикацией по-английски, а для Мэри – единственной статьей в соавторстве). Но главное: Мэри тратила свое время на то, что учила меня профессии: советовала, что именно надо читать, какие именно вопросы перед собой ставить, как именно опыт других стран может быть полезен для понимания политики в России, и т.д. Не могу сказать, что я во всем следовал ее советам: немалая часть reading list образца 1992 года не прочитана и по сей день… Конечно, полноценным специалистом в профессии я так и не стал (да и по сей день ощущаю себя любителем, уступая по уровню подготовки даже средним выпускникам любой британской аспирантуры). Но лучше быть самоучкой, чем совсем уж неучем…
По окончании работы с Мэри в 1993 году наши дороги разошлись: она уехала в Оксфорд, я мотался между Питером и Москвой. Когда мы встретились вновь в начале 1995 года, то Мэри сообщила мне, что она собирается оставить Оксфорд и приехать в Питер, чтобы работать в создававшемся тогда новом Европейском университете, а, кроме того, собирается писать учебник по российской политике, и предложила мне вместе с ней включиться в оба этих начинания. Но спустя несколько месяцев, Мэри ушла на должность руководителя представительства фонда Форда в Москве, ну а я… остался в Европейском университете. Мои новые работодатели такому появлению вместо Мэри нового сотрудника – самоучки «по блату» – были не слишком рады, и мне позднее пришлось приложить немало усилий, доказывая свои credentials. Но этот опыт оказался полезным во многих отношениях… Та самая книга, в работе над которой я помогал Мэри в Питере, Russia’s Politics of Uncertainty, вышла в 1997 году. Она подарила ее мне с дарственной надписью «это предисловие к той настоящей научной работе, которую ты будешь писать» (отношение у меня, да и у самой Мэри к этой книге и впрямь неоднозначное…) Потом, когда мы вместе с Григорием Голосовым выпустили сборник научных трудов под нашей редакцией на английском языке, то посвятили его Мэри. Сейчас Мэри на пенсии, живет в Лондоне, работает бабушкой семерых внуков, от всей души болеет за «Арсенал» и – продолжает научную работу. Она пишет новую книгу, которая будет посвящена анализу правозащитного движения в современной России. Не знаю пока, каков будет результат, но уверен, что читать эту книгу будет интересно (книга вышла в марте 2015 года, я ее еще не читал). А я сам учу новые поколения слушателей и в качестве научного руководителя стараюсь относиться к своим подопечным не хуже, чем Мэри относилась ко мне. Увы, у меня получается не всегда. У меня не было формальных научных руководителей. Но Мэри, как своей руководительнице «по жизни», я бесконечно благодарен…» (взято отсюда).
Борис Докторов: Вопрос – очевидный; пожалуйста, расскажите о той поездке в Оксфорд; долго ли коротко? чему обучались? и т.д.
Владимир Гельман: Поездка в Оксфорд в апреле-июне 1992 года была моим первым зарубежным визитом, и неудивительно, что она сопровождалась массой впечатлений. Часть из них отражена в блоге: «Самый сильный культурный шок в своей жизни я пережил в апреле 1992 года. Впервые приехав в Оксфорд…, в первый же день по совету питерских коллег я посетил книжный магазин Blackwells. Это был первый настоящий академический книжный магазин, в котором я побывал – и до сих пор считаю его одним из самых лучших в мире. Огромная reading room в подвальном этаже потрясла меня даже не столько размерами и количеством книг, которые можно было читать тут же, усевшись на полу, сколько необыкновенной атмосферой – в детстве мечтал стать писателем и продавцом книг, и, казалось, попал в то место, где сбываются мечты. Придя в магазин где-то часов в 10 утра, я провел в нем почти весь день, перебирая корешки книг и перелистывая тома, которые не смог бы перечитать за всю жизнь. Наверное, я и вовсе не ушел бы из сказочного магазина, но меня ждала заранее назначенная встреча с моей руководительницей стажировки. Мэри выслушала мои восторженные впечатления и сказала задумчиво: "знаешь, Володя, может быть, пройдет лет 10-15, и твои книги будут продаваться в Blackwells". Тогда я мало что знал в науке, но ясно осознавал, что мне было примерно так же далеко до продажи моих книг в Blackwells, как футболисту из дворовой команды до выступлений за Manchester United. Поэтому добрые пожелания/предсказания Мэри я воспринял как не более чем желание подбодрить меня. Но эти слова я не забыл, хотя, конечно же, и не вспоминал о них ежедневно.
Летом 2005 года я снова побывал в Оксфорде. Был яркий летний день, в колледжах проходили выпускные мероприятия, и город был полон молодыми людьми и девушками в мантиях и шапочках. Мне очень хотелось снова пережить те же самые волшебные ощущения, что и тринадцатью годами ранее. Я снова вошел в ту самую reading room в Blackwells. Среди книг о России, на самой нижней полке, почти на полу, среди множества других, стояла моя книга (2). Это был (надеюсь, лишь пока что) самый лучший момент моей профессиональной биографии: ради него одного стоило работать и к нему стоило стремиться. Но как жаль, что он уже никогда не повторится…». Но, конечно же, в Оксфорде я не только набирался впечатлений, но и ходил в библиотеку и читал книги и статьи, в основном – классику сравнительной политологии: работы Лейпхарта, Липсета, Пшеворского, Сартори… отдельный сюжет – Роберт Даль: «Книга, ставшая для меня ориентиром №1 – Who Governs? Роберта Даля – попала в мои руки в известной мере случайно… моя руководительница составила для меня reading list, посоветовав начать с книги Даля «Полиархия». Но в первый рабочий день, дойдя до верхнего этажа башенки, где располагалась библиотека Nuffield College, я взял с полки другую книгу того же автора – и зачитался настолько, что не мог оторваться. Путь от олигархии к плюрализму, проиллюстрированный в рамках истории одного города (Нью-Хейвена в штате Коннектикут с 1784 по середину 1950-х годов), детальный анализ местных элит на разных политических аренах, и главное – четкое, ясное и последовательное объяснение логики политического развития страны, да и мира политики в целом сквозь призму отдельного случая – увлекли меня всерьез и надолго. «Полиархию» я потом тоже прочел, однако после Who Governs? она показалась мне «правильной», но скучной – я уже знал, почему и как именно Даль, идя «от поля», пришел к своим теоретическим выводам.
Поскольку в то время я пытался осмыслить логику местной политики в тогдашней России, занимаясь мониторингом субнационального политического развития – сперва на материале Питера, а потом и других регионов страны, то Who Governs? на фоне и размытости моих теоретических представлений, и неполноты и неопределенности фактических знаний выступала безусловным образцом, к которому стоило стремиться (позднее я неоднократно перечитывал эту книгу). Образец этот для меня остался недосягаем и по сей день – и с формальной точки зрения (число ссылок на Who Governs? почти в 2.5 раза превосходит число ссылок на все мои научные работы, вместе взятые), и тем более с точки зрения содержательной. Если Who Governs? служила примером того, как надо проводить исследование, то своим собственным практическим опытом я делюсь со студентами под рубрикой «Как не надо проводить исследования». Хотя спустя некоторое время я прочел и нормативную, и эмпирическую критику этой книги, но она лишь укрепила меня во мнении о том, что прав Даль, а не его критики…». А помимо этого, я приобретал в Оксфорде полезный социальный опыт и навыки коммуникации: «…оказавшись в Англии, я стеснялся говорить по-английски: с чтением было все нормально, но думал я по-русски и фразы выстраивал так же, поэтому окружающие меня не понимали. В столовой колледжа я подходил к окошечку на раздаче, тыкал пальцем в то, что было подешевле, говорил "зыс-плис" (что означало "This, please") и садился есть, ни с кем не разговаривая. Так продолжалось пару недель, пока в Оксфорде не выступил Федор Бурлацкий – бывший спичрайтер Хрущева, бывший редактор "Литературной газеты" и проч. (умер в 2014 году). Бурлацкий говорил на очень плохом английском (куда хуже, чем тогда был у меня) и нес совершенную ахинею. Но при этом школа советской номенклатуры не прошла для него даром – Бурлацкий говорил с таким апломбом и уверенностью, как будто его язык лучше, чем у native speakers, а сам он изрекает великие истины. Послушав Бурлацкого, я решил, что я как минимум не хуже его ни с языковой, ни с содержательной точки зрения и… перестал стесняться своего английского, начал говорить, не обращая внимания на построение фраз, и вскоре обнаружил, что окружающие меня понимают (хотя пишу до сих пор с многочисленными ошибками)…» (взято отсюда). А Оксфорд так до сих пор и остался самым любимым городом из всех, где довелось побывать.
Борис Докторов: Наверное, вернувшись из Оксфорда и имея опыт наблюдения за становлением российской политики и теоретические представления, накопленные в Англии, Вы начали задуматься о подготовке кандидатского исследования. Это так?
Владимир Гельман: До диссертации дело дошло нескоро: в 1992 году я об этом даже и не думал, и защитился только в феврале 1998 года, когда уже работал в Европейском университете. Да и «теоретических представлений» у меня после двух месяцев стажировки было все же маловато. Я двигался совсем в иную сторону. В 1991 году я познакомился с Вячеславом Игруновым, который возглавлял Институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) в Москве. Это была группа выходцев из неформального движения, которые сразу после распада СССР пытались собирать информацию о политических процессах, протекавших на территории бывших союзных республик и в регионах России. Игрунов с подачи В.А.Тишкова, который в 1992 году возглавлял Госкомнац, даже стал на некоторое время руководителем аналитического центра этого ведомства, и развернул работу по мониторингу текущей политической ситуации в постсоветских странах и в республиках и регионах России. Этот мониторинг вели корреспонденты, жившие на тех или иных территориях и писавшие ежемесячные обзоры по более-менее единой схеме. Я принимал участие в разработке этой схемы, и вскоре стал корреспондентом «Политического мониторинга» ИГПИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отчасти схожую работу я выполнял и для Мэри). У мониторинга было много проблем, но главная из них состояла в том, что его материалы было некому анализировать. Отчеты из Пскова или Саратова сдавались в Госкомнац и другим заказчикам и оставались по большей части никем не востребованными. Мне же, наоборот, было интересно понять, что происходит не только в Питере, но и в других регионах России, и я с большим интересом читал материалы, подготовленные другими авторами, и пытался их анализировать. Мои наблюдения привели к тому, что я написал для Игрунова аналитическую записку на основе этих материалов и заодно дал ее прочесть коллегам по Институту социологии. В результате, во-первых, я выступил на семинаре сектора с едва ли не первым своим научным докладом, а, во-вторых, Игрунов, прочтя мою записку, предложил мне стать заместителем директора ИГПИ, переехать в Москву, и, помимо прочего, координировать проект мониторинга.
Борис Докторов: В начале перестройки Вячеслав Игрунов бывал в Ленинграде, мы встречались несколько раз. Упомянув его, Вы дали мне возможность спросить Вас о Вашей активности в «Яблоке» в середине 90-х. Было бы интересно узнать, как сейчас Вы с позиций историка политических движений и политолога в целом объясняете все, произошедшее с «Яблоком».
Владимир Гельман: В 1993 году Игрунов принял активное участие в создании «Яблока», он стал депутатом Государственной Думы, позднее депутатский мандат получил и другой сотрудник ИГПИ – Сергей Митрохин (нынешний председатель партии «Яблоко»). Институт был тесно связан с «Яблоком» и активно сотрудничал с ним по разным направлениям. Я сам писал экспертные заключения по ряду законопроектов, которые обсуждались в Думе, готовил поправки, которые вносились депутатами фракции (некоторые из них были приняты), принимал участие во многих коллективных обсуждениях. Венцом моей околопартийной карьеры стали выборы 1995 года в Государственную Думу: в ходе этой кампании я являлся членом Центральной избирательной комиссии России с правом совещательного голоса от «Яблока». Работа в Москве (помимо сотрудничества с «Яблоком», я занимался и другими проектами ИГПИ, и прежде всего, «Политическим мониторингом») была непростой и сопровождалась немалым количеством стрессов, но в целом это был важный и полезный для меня опыт. Судьба «Яблока» сложилась драматично. Само это объединение (с 1995 года – партия) изначально возникла как демократическая оппозиция, стремившаяся противостоять авторитарным тенденциям в стране. Однако, несмотря на некоторые тактические успехи, потенциал партии был ограничен. С одной стороны, те формальные и неформальные «правила игры», которые в 1990-е года складывались в российской политике, оказались для «Яблока» крайне неблагоприятны. С другой стороны – партии было трудно привлечь на свою сторону как широкие круги избирателей, так и представителей элит: шансы на ее приход к власти изначально были низкими, а после 2000 года на фоне консолидации правящих групп они упали до нулевых. В результате «Яблоко» пережило серию тяжелых кризисов, партию ряды покинул ряд политиков (включая и Игрунова), и нынешнее ее состояние в стране в целом можно обозначить как «жизнь после смерти». Хотя в нескольких регионах (в том числе в Питере) у «Яблока» с 1990-х годов сохранились вполне дееспособные отделения, будущего у партии нет.
Борис Докторов: Володя, я эмигрировал в Америку в самом начале 1994 года и до конца века был на 100% вне науки, потому многие события, происходившие в российской социологии во второй половине 90-х, оказались вне моего внимания. Пожалуйста, поясните мне, как Вы и Ваши коллеги осваивали непростые правила электоральной (и не только) социологии и политологии. Ведь ранее такого опыта у отечественных социологов не было. Могли бы Вы назвать несколько имен Ваших коллег, начинавших работу в те же годы и активных в настоящее время?
Владимир Гельман: Электоральные исследования в России начинались в 1990-е годы «с нуля» и изначально развивались как «нормальная наука» не только в смысле Куна, но и в отношении трансферта идей. В США и Европе к тому времени был накоплен огромный опыт изучения выборов и партий в различных странах мира. Мои коллеги и я сам брали его на вооружение и пытались творчески использовать для исследований и на российском материале. Российские специалисты в 1990-е и 2000-е годы вполне успешно изучали стратегии партий и кандидатов, поведение избирателей и роль политических институтов в процессе выборов, опираясь на зарубежные теоретические разработки, с одной стороны, и отечественные массивы электоральной статистики и материалы массовых опросов – с другой. Формат научных публикаций тоже во многом ориентировался на международный стандарт. Коллективные монографии об электоральных циклах в России, которые мы выпустили вместе с коллегами из ЕУСПб и других учреждений, возникли как часть международной серии книг Founding Elections in Eastern Europe, которая выходила в Wissenschaftzentrum Berlin fur Sozialforshung под редакцией Ханса-Дитера Клингеманна и Чарльза Тейлора. Две книги вышли и на русском, и на английском языках (1, 3), третья – только на русском. Некоторые российские политологи – прежде всего, мой коллега по ЕУСПб Григорий Голосов, а также Николай Петров (долгие годы работавший в Московском центре Карнеги), Александр Кынев, Петр Панов из Перми, да и я сам (1, 3, 9, 12, 18) – опубликовали, в том числе и за рубежом, немало книг и статей по изучению российских партий и выборов. Состояние электоральных исследований (не только в России) сильно зависит от состояния самого объекта исследования. В 2007 году в обзоре изучения выборов в России я писал: «Изучение выборов как важнейшего (хотя, разумеется, далеко не единственного) института демократии слишком тесно связано с их демократическим потенциалом: если политологи будут вынуждены анализировать заведомо несвободные и несправедливые «выборы без выбора», то трудно ожидать, что они скажут новое слово в науке о закономерностях политики в стране и в мире в целом… Политическая наука в нашей стране вообще и электоральные исследования в частности имеют шанс стать «нормальной наукой» лишь в условиях, если политика в России не утратит основные атрибуты «нормальной страны», включая проведение конкурентных выборов». Сегодня mainstream в изучении российских выборов – это анализ различных механизмов ограничения политической конкуренции и злоупотреблений со стороны властей, в том числе и фальсификаций результатов голосований. Можно сказать, что эта сфера исследований существенно обогатилась за счет изучения российского материала, особенно в последние годы.
Борис Докторов: Вернемся к ИГПИ, Вячеслав Игрунов предложил Вам замдиректорство и переезд в Москву. Какое решение Вы приняли и почему?
Владимир Гельман: Я согласился, и в 1993 году приступил к работе в ИГПИ. В Институте социологии меня особенно ничто не удерживало, но полставки и статус научного сотрудника я за собой сохранил (окончательно уволился оттуда только в 1998 году). Работа в Москве давала гораздо больше возможностей, больше контактов, а главное – по договоренности с Игруновым после трех лет работы в ИГПИ я получал возможность выкупить квартиру в Москве, в которой я жил, по цене существенно ниже рыночной. Такой возможностью было бы грех не воспользоваться: ведь своего жилья в Питере у меня тогда не было, и шансов его приобрести – тоже. В ИГПИ я проработал до января 1996 года.
Борис Докторов: Виктор Вахштайн в интервью, которое мы провели в 2014 году, вспоминает о своей аналитической работе в «Яблоко» на рубеже веков. Тогда там работали многие известные ныне политики и аналитики. В частности, он называет Елену Мизулину, Алексея Навального и Илью Яшина. Вы работали с Вахштайном и указанными политиками? Безотносительно к тому, знакомы ли с Навальным, что Вы могли бы сказать о нем как о политике?
Владимир Гельман: В 1993-1996 годах, когда я работал в Москве, из всех указанных Вами лиц на политической сцене присутствовала лишь Мизулина. В то время она была весьма прогрессивным и квалифицированным членом Совета Федерации, затем баллотировалась в ГосДуму. Сейчас, когда ее имя стало символом обскурантизма, в это трудно поверить. Впрочем, многим бывшим демократам, перешедшим на службу правящему в России режиму, присущ эдакий «синдром Вышинского» (по имени бывшего меньшевика, позднее ставшего одной из наиболее мрачных фигур сталинской эпохи). С Навальным я лично не знаком. Считаю его одним из наиболее талантливых публичных политиков первого постсоветского поколения, пожалуй, самой яркой фигурой в нынешнем лагере российской оппозиции. Хотя нынешние политические тенденции в стране для оппозиции крайне неблагоприятны, спрос на перемены, думаю, рано или поздно будет нарастать.
Борис Докторов:… и все же Вы вернулись в Петербург (как поется в известной песне Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева); что в Москве перестало Вас удовлетворять, что Вам засветило в родном городе?
Владимир Гельман: В Москве мне приходилось заниматься самыми разными делами: работа занимала 25 часов в день и 8 дней в неделю – организация «Политического мониторинга» (надо было обеспечивать бесперебойный выпуск материалов, редактировать тексты, работать с авторами), написание аналитических записок по разного рода текущим поводам, подготовка заключений и поправок к законопроектам etc. Словом, я отчасти был менеджером, отчасти – аналитиком «на подхвате». Для занятий наукой не хватало не только времени, но и денег – ИГПИ постоянно нуждался в средствах на выплаты маленьких зарплат и гонораров, а низкий академический статус института («ядро» сотрудников было самоучками без ученых степеней) не позволял нам рассчитывать ни на публичное признание, ни на финансовую поддержку. Тем не менее, энергия и контакты Игрунова позволяли ИГПИ «держаться на плаву» вплоть до 2000-х годов. Для реализации замыслов, прежде всего – проекта сравнительного исследования политических процессов в регионах России – требовались ресурсы, и я пытался писать заявки на гранты. В итоге нам удалось – уже после моего ухода из ИГПИ – запустить этот проект и реализовать его. Так или иначе, я не планировал связывать с ИГПИ всю жизнь, и задумывался об иных вариантах продолжения карьеры. Между тем, в Петербурге в 1995 году создавался Европейский университет, и Мэри (изначально собиравшаяся преподавать на создававшемся «с нуля» факультете политических наук и социологии) рекомендовала меня в качестве перспективного кандидата на преподавание курсов по российской политике. Идея Мэри состояла в том, что мы с ней будем вместе преподавать и писать в соавторстве учебник по российской политике (даже предварительный контракт с Oxford University Press подписали, но учебник так и не появился). Я согласился, но вскоре Мэри стала руководителем представительства фонда Форда в Москве, и в дальнейшем она оказывала помощь Европейскому университету, прежде всего, в этом качестве (ее вклад в развитие ЕУСПб неоценим). Ну а я, взяв на себя новые обязательства по преподаванию политологических курсов в ЕУСПб, вскоре после думских выборов 1995 года закончил работу в ИГПИ (и в «Яблоке») и вернулся в Питер.