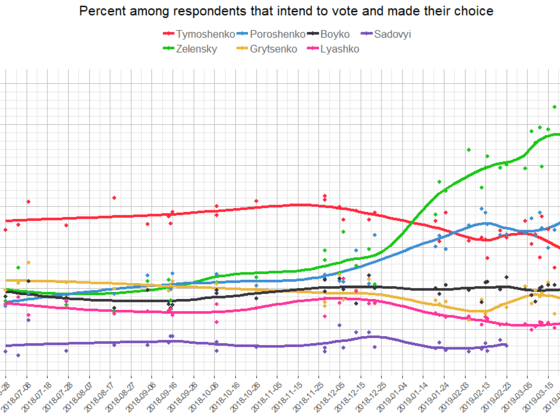9 Мая стало жертвой гигантской фальсификации, но за праздничным шумом все очевиднее становится, что Победа больше Сталина или Путина
С 9 Мая связано одно из первых воспоминаний детства: я рисую шишечки на ветке лавра. Открытка дедушке ко Дню Победы. Стояло брежневское безвременье, когда культ Победы бронзовел, покрывался виньетками, орденами и лавровыми венками, отсюда и веточка. Еще, наверное, я рисовал солнце, красную звезду, может, неуклюжего голубя мира — танки я не рисовал никогда.
Помню Дни Победы своей студенческой юности, времен перестройки. После Первомая город был пустой и умытый, расцветала сирень, улыбались троллейбусы, и ноги сами шли к Большому театру, где еще не вырубили старый сквер и звучала музыка военных лет. Там можно было походить между торжественными и грустными людьми в парадной форме, которые собирались редеющими группками у табличек с названиями частей. Это был тот самый «праздник со слезами на глазах», мы все понимали, что это уходящая натура, и пытались сохранить в памяти это место и настроение, как далекую музыку, как сиреневый дым.
Потом праздника становилось все больше, а слез и ветеранов все меньше, пока в один момент, лет семь-восемь назад, я не понял, что 9 Мая как государственный праздник перестал для меня существовать и превратился в частное переживание, в потертую фотокарточку молодого деда в форме майора-связиста и в его могилу на Химкинском кладбище, в несколько песен Бернеса и Шульженко, в «Иди и смотри» Элема Климова, в «Крик» Константина Воробьева. Скорее всего, точкой расставания стала георгиевская лента — вернее, не она сама, а ее культ, вылившийся в торжество пошлости и квасного патриотизма. И вот сегодня, накануне 70-летия главного народного праздника, я хочу задать тот же вопрос, что задал однажды режиссер Майкл Мур Джорджу Бушу-младшему: Dude, where’s my country? (Чувак, где моя страна?)
А я хочу поинтересоваться: где моя Победа?
9 Мая — осевое событие прошлого столетия для России. С одного края были 1914-й и 1917-й, с другого — 1991-й, но кульминацией страшного русского ХХ века, гигантской жертвой, пиком могущества Советского Союза, с которого он начал свое неумолимое сползание вниз, был 1945-й. День Победы — единственный неоспоримый мемориальный праздник нашего современного календаря, в отличие от 4 ноября или 12 июня, не придуманный пиарщиками, а выстраданный и оплаченный кровью. Именно поэтому празднование 9 Мая — самый точный индикатор эпохи, зеркало, которое отражало историю каждого послевоенного поколения.
За 70 лет этот праздник «колебался вместе с партией» и несколько раз радикально менялся под стать эпохе. Сталин Победы боялся, как боялся он фронтовиков, победителей, страшился, что разоблачат его преступное малодушие в июне 1941-го (когда после недельного исчезновения в начале войны к нему удалось пройти Берии и Маленкову, Сталин был уверен, что они пришли его арестовывать), его стратегические просчеты и страшную, неподъемную цену победы. Не случайно на праздничном банкете 24 мая 1945 года в порыве неожиданной откровенности он отверг славословия в свой адрес и предложил знаменитый тост «за здоровье русского народа» и его терпение, которое позволило ему прощать ошибки и поражения правительства и не скинуть Советскую власть. 8 миллионов фронтовиков, 5 миллионов остарбайтеров и почти 70 миллионов человек, живших на оккупированной территории, были для Сталина опасной и неуправляемой силой, особенно фронтовики, которые не боялись ни Смерша, ни гестапо и на которых не действовала магия сталинской власти — магия страха. Выходной 9 Мая был с 1947 года отменен (вместо него сделали выходным 1 января), а в стране полным ходом развернулась новая волна террора — от повторных арестов и депортаций народов до культурной реакции, ждановщины и борьбы с космополитизмом. Многие воины-победители, партизаны, узники немецких лагерей без пересадки отправились дальше на восток, в лагеря или на поселение. Вновь, как в 1612 и 1812 годах, русский народ поднялся и спас своих бездарных правителей от окончательного разгрома — чтобы затем покорно вернуться в рабское ярмо.
В хрущевскую оттепель многие из этих людей возвратились — и с ними начала прорастать другая, человеческая, память о войне, тем более что сам Хрущев не сильно жаловал военный генералитет начиная с маршала Жукова. В этот период появляется «лейтенантская проза» Василя Быкова, Даниила Гранина, Григория Бакланова, Виктора Астафьева, снимаются самые пронзительные фильмы о войне: «Летят журавли», «Иваново детство», «Отец солдата»; чуть позже, в начале 1970-х, были сняты «Белорусский вокзал» и «А зори здесь тихие». Вместе с «Бабьим Яром» и песней «Хотят ли русские войны» эти книги и фильмы создали новый канон восприятия Великой Отечественной, на котором выросли два советских поколения 60-80-х, — полный гордости и горечи, человечный и миролюбивый; рефреном к нему звучали слова Тамары в исполнении Людмилы Гурченко в финале михалковских «Пяти вечеров»: гладя своего уставшего героя Ильина, вернувшегося к ней после всех мытарств и метаний, она повторяет как молитву: «Лишь бы не было войны, лишь бы не было войны», между тем как камера скользит по милым приметам послевоенного быта: ковер, сервант, телевизор под кисеей…
С приходом Брежнева праздник 9 Мая претерпевает очередную трансформацию. С 20-летия Победы в 1965 году, когда впервые с 1945-го состоялся военный парад на Красной площади и прием в Кремлевском дворце, 9 Мая начинает обретать черты официозно-государственного культа. Этот день вновь сделали выходным. Появляются мемориалы (в 1967-м Брежнев открывает Могилу Неизвестного Солдата), ветераны встраиваются в партийно-советскую систему, выходят многотомные генеральские мемуары (в том числе возвратившегося из опалы Жукова) и киноэпопеи на манер «Освобождения»: жанр памяти из лирического становится эпическим. По мнению историка Никиты Соколова, идея перевернуть народную память о войне, заявить, что это была не столько победа народа, сколько победа советской системы, показатель эффективности социализма, принадлежала главному партийному идеологу Михаилу Суслову. Живую память о Победе стали тщательно лакировать, заливать елеем речей и бетоном многотонных монументов, типа устрашающего мемориального ансамбля на Малой Земле, за танцы возле которого в апреле 2015 года новороссийские девушки получили 15 суток ареста. Да и вообще весь культ Малой Земли, раздутый в 1970-е и увенчанный книгой Брежнева, является хорошей иллюстрацией бездарной пропаганды и ответного фольклорного цинизма, как в известном анекдоте тех времен: «Где вы были в годы войны? Сражались на Малой Земле или отсиживались в окопах Сталинграда?»
Этот дуализм народной памяти и бетонно-бронзового официоза сохранился в годы перестройки и в 1990-е.
С одной стороны, в эпоху гласности вскрывались новые факты халатности и непрофессионализма советских военачальников, приходили новые свидетельства о бессмысленных жертвах, появлялись альтернативные интерпретации Второй мировой (как у Виктора Суворова), которые ставили под сомнение сияющий образ СССР как невинной жертвы фашизма и защитника мира, с другой — рос и креп бетонный миф, окончательно оформившись в 1995 году в мегаломанский и бессмысленный, как это водится у Церетели, мемориал на Поклонной горе в Москве, ради которого саму эту гору вместе с парком потребовалось срыть, уничтожив легендарное столичное место памяти.
А затем началась путинская эпоха, в которую Победа была окончательно присвоена государством. В очередной раз, как при Сталине, Хрущеве и Брежневе, 9 Мая отразило дух времени, установки власти и настроения общества. В эпоху обустройства вертикали власти Победа стала использоваться для легитимации правящего режима. Путин чувствует себя прямым наследником сталинского СССР образца 1945 года, который держал в Европе 13-миллионную армию, перекраивал карту мира и вершил судьбами стран и народов. Тот же миф проецируется в сознание населения, которое тяготится постсоветским ресентиментом и испытывает фантомные боли утраченной империи. Миф о Победе снова дает ощутить иллюзию величия, приписать себе заслугу, к которой нынешняя Россия уже не имеет отношения. Отсюда бесконечные надписи «Т-34» и «Ил-2», ордена Победы и надписи «На Берлин!» на стеклах машин: это магические руны, которые взывают духов прошлого и дают ощущение силы.
Несмотря на статью 13 в Конституции РФ, которая запрещает иметь государственную идеологию, Победа фактически стала такой идеологией, смысловой осью путинского режима, той самой духовной скрепой. Это универсальная оптика, которая оправдывает любые действия власти, от репрессивных законов о «фальсификации» и «оскорблении», которые блокируют любую общественную дискуссию по темам Второй мировой войны, до освоения бюджетных ресурсов под соусом юбилея (свежий пример — гранты «Ночных волков»). 70-летие Победы стало репрессивным механизмом власти, способом борьбы с инакомыслием, средством мобилизации и индоктринации населения. 9 Мая (как до него Олимпиада в Сочи или борьба с «оранжевыми революциями») по сути вводит логику «чрезвычайного положения», о котором писал Карл Шмитт.
Впрочем, Москва в эти дни и так переведена на осадное положение: город наводнен военной техникой и полицейскими подразделениями, идут массовые проверки личности на улицах, жителям запрещено смотреть из окон во время проезда высоких гостей, а немногим ветеранам войны, которые собирались приехать в столицу, но не были включены в протокольные списки, рекомендовано остановиться на 101-м километре и не смущать своим присутствием размеренный ход торжества — точь-в-точь как в 1946-м, когда в одночасье исчезли с улиц все инвалиды войны. Этот праздник являет собой логику суверенитета в своем высшем, исключительном проявлении: он сделан не для людей, а для государства, а если точнее, то для одного-единственного человека.
Еще более удивительная трансформация праздника заключается в том, что именем Победы оправдывается российская агрессия в Украине: аннексия Крыма, война в Донбассе, а теперь и холодная война с Западом, вплоть до ядерных угроз — то есть все то, против чего Советский Союз сражался в 1945-м. Из символа скорби и памяти георгиевская лента стала символом братоубийственной войны, отличительным знаком сепаратистов. Пропаганда создала в умах людей виртуальное продолжение Великой Отечественной в виде войны в Донбассе, где украинцы заняли место «фашистов», отморозки типа Моторолы предстают героями-освободителями в орденах, а «взятие» Дебальцево в апреле 2015 года приравнивается к войсковым операциям Второй мировой. Ополченцы в Донецке теперь проводят свой парад Победы, хотя могли бы и пройти строем по Красной площади, и никого бы это не удивило. Победа поменяла свой знак на противоположный: теперь она несет не мир, но меч, заклинание «лишь бы не было войны» уже не действует, и ответ на вопрос Евтушенко «хотят ли русские войны» уже утвердительный: да, хотят — с Украиной, Америкой, Западом, до победного конца. По России разъезжают тысячи машин с омерзительной наклейкой на заднем стекле, где серп и молот насилует свастику, и подписью «1941-1945. Можем повторить».
Но за всеми этими ритуальными жестами стоит пустота.
Главное свойство путинской эпохи даже не в вертикали власти, не в репрессиях, коррупции и православном ренессансе — оно состоит в имитации всех институтов, истории, памяти, самой власти, в победе символического порядка над реальностью и человеком. 9 Мая тоже стало жертвой этой гигантской фальсификации. По улицам ходят фальшивые ветераны с самопальными орденами, иные из них по сути являются ветеранами не войны, но КПСС или НКВД-КГБ, а средний возраст ветеранов, приглашенных в Москву на празднование 70-летия Победы, составляет 73 года. Со стен и билбордов смотрят фальшивые плакаты, где дизайнеры, набранные по объявлению (освоение бюджетных средств на патриотической рекламе — отдельная тема) иллюстрируют лозунги ко Дню Победы картинками из фотобанков с американскими солдатами, израильскими танками, а то и вовсе пилотами люфтваффе. По телевизору идут колоризованные «В бой идут одни старики» и «17 мгновений весны», в кино — целлулоидный «Сталинград» и трэшевое «Предстояние», по радио военные песни поет отечественная попса. Мясорубка путинского постмодерна перемолола 9 Мая и выдала унылый фарш. Даже главный символ победы, георгиевская лента, стал универсальным торговым знаком, который лепят куда ни попадя, от шлепанцев до трусов, от бутылок водки до немецкого пива. Георгиевская лента сегодня превратилась во что-то вроде новогодней мишуры, которой в декабре украшают все подряд, потому что душа хочет праздника.
Сейчас люди тоже хотят праздника, но получают в итоге пустышку, место памяти становится местом забвения, и это, наверное, самый суровый приговор нынешнему режиму, который плодит только симулякры — суверенной демократии, модернизации, империи, теперь вот симулякр Победы. Хотели историческую политику и имперский миф, а получили пошлость и попсу, «спасибо деду» на заднем стекле и «ветеранов Донбасса» на телеэкране.
Но вот парадокс: мое 9 Мая никуда не подевалось, оно всегда со мной.
За праздничным шумом все очевиднее становится, что Победа больше Сталина, Путина, Кремля, Советского Союза, что это огромный экзистенциальный акт страдания и преодоления, который не может быть приватизирован ни властью, ни ее лживыми пропагандистами. Она принадлежит народу, а не государству, недаром Сталин ее так боялся. Мы должны вернуть себе Победу как народный праздник, светскую Пасху — день весны и свободы, гордости и достоинства, как день памяти о жертвах и презрения к тем, кто их посылал на бойню. Это наш день, который никому не дано ни отнять, ни испортить, потому что он справляется не на Красной площади, а в сердцах людей. С праздником!