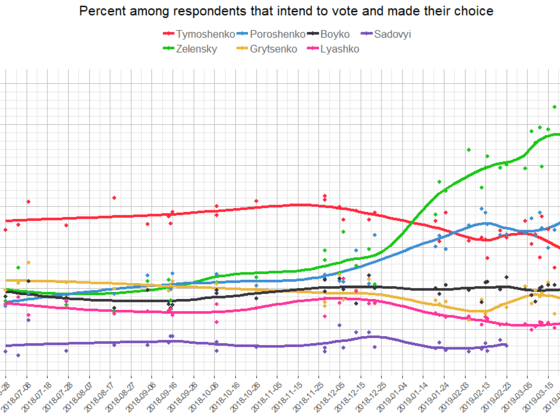На третьем сроке Путин сломал собственную символическую политику и вместо объединяющих стал опираться на разделяющие темы.
С первых дней своего прихода во власть Владимир Путин был очень внимателен к символической стороне политики. Борис Ельцин этой стороной пренебрегал. Среди первых шагов нового президента были восстановление царского герба и советского гимна, установление контроля над медиасферой и посещение Мамаева кургана в Волгограде, «главной высоты России». После глубокого кризиса идентичности, который пережило российское общество с момента распада Советского Союза, восстановление «символической вселенной» было воспринято большей частью общества позитивно. Именно поэтому Путин так много внимания уделял объединяющим символам, таким как победа в Великой Отечественной войне, и не давал хода тем, что могли расколоть общество: он не поддерживал активно ни десталинизацию, ни восстановление имени Сталина, не принял решения о выносе тела Ленина из Мавзолея, не менял названий городов и не трогал другие проблемы, отношение к которым было в России неоднозначным.
Поскольку Победа остается главным историческим событием, сплачивающим россиян, постольку Путин озаботился тем, чтобы связать с ней свой политический образ. С этой точки зрения легко объяснить и постоянное внимание верховной власти к учебнику истории как перечню общих символов, и особое внимание властей к сохранению правильной интерпретации именно Великой Отечественной войны. За фасадом этого символизма выстраивалась вертикаль власти, росли доходы людей и коррумпированность чиновников, увеличивалась пропасть между богатыми и бедными, между столицами и глубинкой, но все это до поры до времени оставалось на периферии общественного внимания и не было предметом массового публичного обсуждения.
Символическая политика исчерпала себя уже к концу второго срока Путина, а экономический кризис 2008 г. поставил перед властью проблемы реальных (а не символических) действий. В бытность президентом Дмитрий Медведев попытался продолжать символическую политику, меняя, например, милицию на полицию, но это выглядело попыткой подменить дела «игрой в названия». В тот же период в России возникли и стали расти общественные движения, ставившие перед собой реальные, а не символические цели: борьбу с коррупцией, с наркотиками, защиту от пожаров, поиск пропавших детей и проч. На следующем повороте нашей недавней истории эти движения стали основой самоорганизации протестного движения. Рост влияния националистических групп разной степени радикальности в этот период также можно понять как следствие того, что националисты связали собственную — альтернативную предлагаемой властями — систему символов с реальной политической повесткой дня. Символика первого десятилетия путинской власти набила оскомину, и Общероссийский народный фронт, о создании которого Владимир Путин объявил в Волгограде накануне Дня Победы (тут можно усмотреть некоторый символический перебор), не стал заметной общественной силой.
Протестная зима 2011-2012 гг. показала слабость и непопулярность властей. Кроме того, «символическая вселенная», возможно объединяя российское общество, тем не менее не спасала от критики коррумпированную бюрократию. Лишь лично Путин был частью этого символизма (песня группы «Белый орел» с рефреном «за нами Путин и Сталинград» могла появиться в 2001 г. как постмодернистский стеб, но уже к 2007 г. исполнялась на мероприятиях молодежных прокремлевских организаций и форуме сторонников Путина вполне всерьез).
В результате на третьем сроке Путин сломал собственную символическую политику. Вместо объединяющих в общество стали вбрасываться разделяющие темы: отношение к православию, к Западу, к нетрадиционной сексуальной ориентации, к соседней Украине. Вместо тихого законодательного выстраивания новой системы власти и собственности (чем главным образом занимались Думы предыдущих созывов) нынешняя Государственная дума штампует законы, корежащие общество, бросающие вызов не только политическим взглядам, но и этическим убеждениям и эстетическим вкусам значительной части россиян. Показательна и смена людей, отвечавших за символическое наполнение кремлевской политики. От Павловского и Суркова власть повернулась к Рогозину, Проханову, Дугину, Кургиняну, наконец, к Дмитрию Киселеву, по сравнению с которым Михаил Леонтьев выглядит интеллигентом из прошлой жизни. Это было, конечно, продолжением политики символов, однако в другой форме. Раскалывающие общество символы могут быть инструментом управления — но, как правило, недолго. Очень скоро результатом символического раскола стало конструирование реального врага. Символическая политика начала наполняться реальным содержанием — но не тем, которого требовали люди на улицах зимой позапрошлого года. То, что звучало как красивые или страшные слова, обрело вдруг плоть и кровь, стало реальными тюремными сроками, аннексией территорий, гибелью людей. Власть в этой ситуации оказалась заложницей собственной стратегии: единственным способом избежать полномасштабного гражданского конфликта в такой ситуации является постоянное производство новых символических конфликтов, каждый из которых по-другому проводит линию раскола в обществе и переводит внимание на нового «противника». Никакое общественное согласие и единство более не являются ценностью — они воспринимаются властью как угроза. В запасе у Кремля есть еще несколько шагов, которые могут вызвать новые общественные расколы, среди них переименование Волгограда в Сталинград и похороны Ленина, но, думается, их берегут на крайний случай. В нынешней ситуации эти решения будут означать, что государство потеряло рычаги управления обществом.